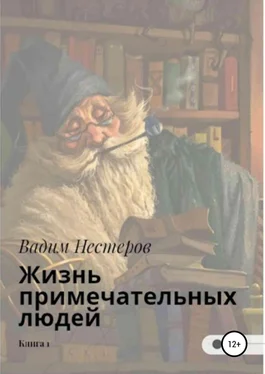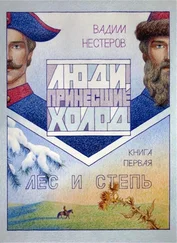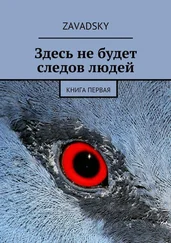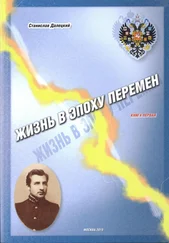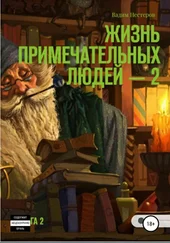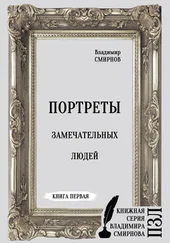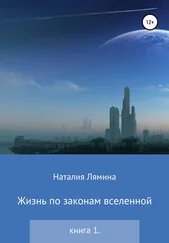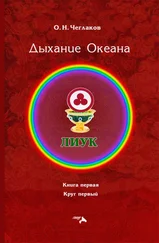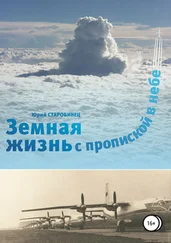Во время одного из этих "походов" Анисья прямо на паперти упала в обморок и вскоре умерла. Лишь тогда Ключевский по-настоящему понял, как много она для него значила.
В 1909 году вышел очередной том главного труда его жизни — «Курса русской истории».
Книга открывалась посвящением: « Памяти Анисьи Михайловны Ключевской ».
А в записных книжках ученого осталось немало афоризмов, посвященных этой странной науке — любви.
Некоторые из них я предлагаю вашему вниманию:
1. Обыкновенно женятся на надеждах, выходят замуж за обещания. А так как исполнить свое обещание гораздо легче, чем оправдать чужие надежды, то чаще приходится встречать разочарованных мужей, чем обманутых жен.
2. Семейные ссоры — штатный ремонт ветшающей семейной любви.
3. Есть женщины, в которых никто не влюбляется, но которых все любят. Есть женщины, в которых все влюбляются, но которых никто не любит. Счастлива только та женщина, которую все любят, но в которую влюблен лишь один.
4. Мужчина слушает ушами, женщина — глазами, первый — чтобы понять, что ему говорят, вторая — чтобы понравиться тому, кто с ней говорит.
5. Хорошая женщина, выходя замуж, обещает счастье, дурная — ждет его.
6. Красивые женщины в старости бывают очень глупы только потому, что в молодости были очень красивы.
Клинок, прошивший континент
Дочка, делая уроки, недавно спросила у меня: "Папа, а что такое "загадка истории"?".
Я задумался, а потом рассказал ей вот про что.
В Государственном историческом музее, в маленьком зале под № 17, посвященном истории Сибири в XVI–XVII веках, в одной из витрин лежит экспонат, немного неуклюже обозванный «Клинок шпаги». Неуклюже — потому что на самом деле это не клинок шпаги, а сама шпага. У нее есть рукоять, хотя и «не родная» и довольно невзрачная. Обычная деревяшка, обернутая кожей, и стянутая на концах двумя железными кольцами.
В общем, шпага лишена своего главного украшения — вычурной рукояти с гардой, защищающей руку. «Ну и что? — спросите вы — Ну отломали у шпаги рукоять и поставили самоделку, ну и что?".
А вы наклонитесь поближе к витрине, и рассмотрите клинок повнимательнее. Возле рукояти вы увидите четкую надпись латинским шрифтом: « ANNA * 1601 » и клеймо мастера.
А вот дальше, по всему лезвию, еле видно выгравирована надпись уже на кириллице. Вы ее, скорее всего, не разберете — вряд ли вы умеете читать шрифт XVII века. А написано там вот что: « Кинжал Еренского городка посадского человека Ивана Тимофеева сына Оболтина писан в лето ЗРЧВ месяца майя в КД ».
"Кинжал" — потому что слова "шпага" на Руси тогда еще не знали. Под таинственными «ЗРЧВ» и «КД» на самом деле спрятаны банальные цифры — каждая из них в старорусской письменности имела своего «буквенного» двойника. Таким образом, надпись сделана «в лето» 7192 года, или, перейдя на современное летоисчисление, в 1684 году, 24 мая.
Причем "Иван Тимофеев сын" не только "подписал" клинок, но и пустил по нему орнамент, почему-то китайско-монгольский.
Получается, между тем, когда мастер изготовил клинок, и временем, когда Ивашко Оболтин приладил к нему новую рукоять, прошло 83 года. Ничего удивительного — холодное оружие обычно живет гораздо дольше людей, да и стоил хороший клинок часто дороже, чем человеческая жизнь.
Удивительно другое.
Клинок — это знаменитая испанская сталь, и изготовлен он был в славном городе Толедо в самом начале XVII века.
А «Еренский городок» — это небольшой город Яренск, расположенный на реке Вычегде, в XVII веке — один из опорных центров продвижения Российского государства в Сибирь. Ныне — село Яренск, райцентр Ленского района.
Да и тогда — далеко не центр мира, жителей всего 837 человек.
О мастере, изготовившем клинок, мы не знаем ничего — время сохранило его клеймо, но потеряло фамилию. Понятно только, что он был не шибко грамотен. Надпись ANNA 1601 на клинке это не имя какой-нибудь испанской доньи, как можно подумать. Это сокращение от латинского Anno Domini или просто A. D. — "от Рождества Христова". Вот только мастер написал с ошибкой — ANNA вместо ANNO. Примерно как наш подписал бы: "1601 гот".
Про посадского человека Ивана Оболтина знаем чуть побольше — писцовые книги сохранились. Вышел с самых низов, его отец, бобыль Тимофей Оболтин, даже своего дома не имел, и жил " с сыном Ивашкой и сыном Федькой " во дворе у чужих людей. Ивашко в 1640 году " сошел в Сибирь ", но потом вернулся и по книге 1678 года вновь живет в родном " Еренском городке ", купив собственный дом. Бездетен, всей семьи — " родной брат Федка ", на жизнь зарабатывает, судя по всему, оружейным ремеслом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу