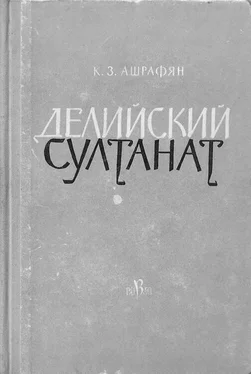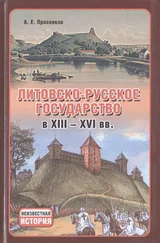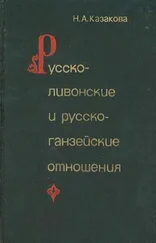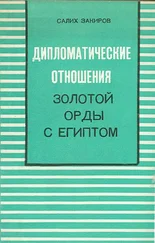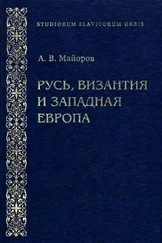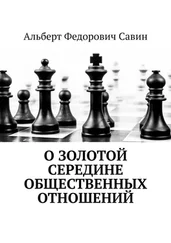Личность Мухаммед Туглака была весьма колоритной. Барани характеризует его как одного из самых образованных людей своего времени. Он не только был хорошо знаком с персидской поэзией, но и сам сочинял стихи, и ни один учитель стихосложения не мог конкурировать с ним. Ни один ученый, каллиграф, поэт, врач, физик не могли соперничать с ним каждый в своем искусстве или устоять в диспутах против сокрушительных, аргументов султана [843] Там же, стр. 463–464.
. Что касается религиозных воззрений султана, в этом отношении источники сообщают, на первый взгляд, противоречивые сведения. Например, Ишами, автор "Футух ус-салатин", исторической поэмы, написанной при жизни Мухаммеда и посвященной восставшему против него Ала уд-дину Хасану, первому правителю Бахмаиндского государства, рисует мрачную картину кровавых расправ, султана с населением, говорит о его выступлении против ислама, дружбе и тесных связях с "индусами и йогами" [844] А. М. Husain, The rise and fall of Muhammad bin-Tughluq , p. XI.
. Эта резкая и осуждающая характеристика Ишами религиозных воззрений Мухаммеда Туглака не может быть объяснена враждебностью автора "Футух ус-салатин" к султану, поскольку она повторяется отчасти Барани, который замечает в своей истории, что султан оставил без внимания заповеди корана и изречения пророка [845] Барани, Тарих-и Фируз-шахи , стр. 465–466.
.
В то же время Ибн-Батута, также современник Мухаммеда Туглака, говорит о крайней ревностности султана в вопросах религии, о его ортодоксальности [846] Ibn-Batoutah, Voyages …, p. 286–287.
и пр. Как справедливо полагает А. М. Хусейн, эти, на первый взгляд, противоречивые данные источников в действительности отражают различные этапы в развитии религиозно-философских воззрений Мухаммеда Туглака. Ко времени прибытия в Индию Ибн-Батуты (334 г.) Мухаммед, по-видимому, не только отказался от своих прежних воззрений, но и начал расправы против всевозможных религиозно-философских сектантских учений, шедших вразрез с ортодоксальным исламом. Это и было причиной того, что Ибн-Батута говорит лишь об одном, последнем этапе в религиозных воззрениях султана, в то время как Ишами, бывший свидетелем лишь первоначального периода правления султана, пишет о всякого рода религиозных сомнениях, имевших место в этот период. Что касается Барани, то он отмечает оба этапа в развитии религиозных воззрений султана [847] А. М. Husain, The rise and fall of Muhammad bin-Tughluq , p. 200.
.
Интересный ответ на этот вопрос дают отрывки из мемуаров или автобиографии, приписываемой перу Мухаммеда Туглака, хранящейся в Британском музее и впервые опубликованной в оригинале и переводе А. М. Хусейном в его монографии. Здесь Мухаммед Туглак замечает, что политическая обстановка не позволила его отцу Гийяс уд-дину Туглаку заниматься религиозными вопросами и он не нашел своему сыну Мухаммеду хорошего имама (духовного наставника). В результате "я верил всем бессмыслицам и вполне заслуживал ада, — писал султан. — Улемы… уклонялись от указания истины; они были жадны в получении доходных мест и совершенно перестали заниматься богословскими науками… Случайно я встретил несколько философов; и, веря, что они находятся на пути истины, я присоединился к ним. Некоторые их речи запали в мое сердце. Во мне возобладал атеизм по мере моих сомнений в существовании бога. Я находился в очень плохом душевном состоянии и в результате ни одно из моих намерений не преуспевало… Важные дела управления, народа, религии и государства пришли в сумятицу. Беспорядок был так велик, что все предпочитали быть язычниками". Дошедший до нас отрывок завершается словами Мухаммеда Туглака о том, что в конце концов он оставил свои сомнения и поверил в существование бога [848] Ibid., appendix. — X. А. Низами полагает, что так называемая биография Мухаммеда Туглака является подделкой (Kh. A. Nizami, Studies on medieval India , p. 76–77).
.
По-видимому, вся суть вопроса отнюдь не в изменении личных религиозно-философских представлений султана, и, нам представляется, правильнее было бы говорить об изменении в курсе религиозной политики. XIII в. — первая четверть XIV в. были временем распространения в Делийском султанате суфизма и других сектантских и религиозно-философско-этических учений и течений. Как было показано на примере суфизма, одни и те же течения могли охватывать различные социальные группы; в числе последователей суфийских и других орденов были как представители знати, так и отдельные члены правивших домов. Ко второй же трети XIV в., в период обострения в султанате социальной и политической борьбы, многие из этих течений превратились в знамя этой борьбы, которая вызвала необходимость резкого изменения правящей верхушки своего отношения к деятельности многих сект. Изменение курса политики в отношении различных религиозных и сектантских учений сопровождалось жестокой расправой с их проводниками и последователями. "Истязания мусульман, наказание правоверных, — писал Барани, — превратились у него (султана — К. А .) в повседневное занятие и страсть. Многие улемы, шейхи, сайиды, суфии, каландары, писцы и воины были наказаны по его приказу. Не проходило дня или недели без обильного пролития крови мусульман, без того, чтобы не текли потоки крови перед его дворцом" [849] Барани, Тарих-и Фируз-шахи , стр. 465–466.
. Ибн-Батута писал, что султан строго карал людей, пренебрегавших молитвами. На городские базары посылались специальные должностные лица, которые наказывали всех, кого находили здесь во время богослужения. Однажды было казнено девять человек. Жестокому наказанию подверглись также сатариины [850] Ibn-Batoutah, Voyages …, р. 286–287.
— люди, закрывавшие свои лица покрывалами. А, как известно, в средние века в ряде стран Востока лица закрывали вожди и участники многих сектантских движений. Бадауни называет Мухаммеда "хуни", т. е. кровавый [851] Бадауни, Мунтахаб ат-таварих стр. 240.
.
Читать дальше