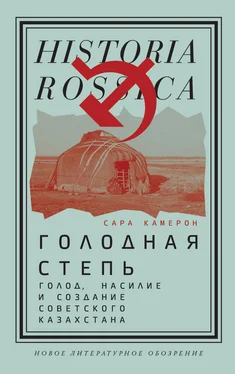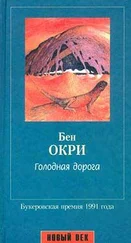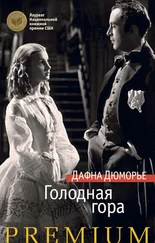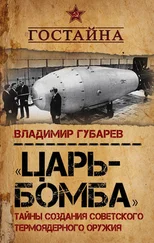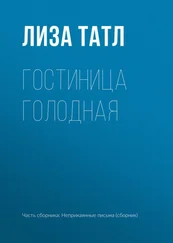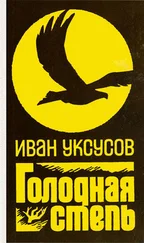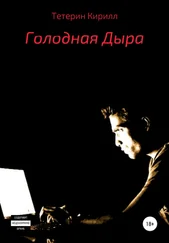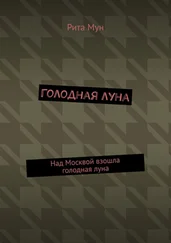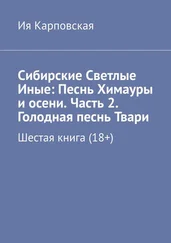Как показали исследования, голод может быть результатом сочетания резких перемен и долгосрочных структурных процессов 109 109 Примеры подобного подхода см. в работах: Davis М. Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World. New York, 2002; Serels S. Starvation and the State: Famine, Slavery, and Power in Sudan, 1883–1956. New York, 2013; Watts М. Silent Violence: Food, Famine, and Peasantry in Northern Nigeria. Berkeley, 1983.
. Программа стремительной трансформации страны, проводимая советской властью, была главной причиной казахского голода 1930–1933 годов, и маловероятно, чтобы в Казахстане без яростной атаки на кочевой образ жизни начался бы голод. Но свою роль сыграло и наследие Российской империи, и в первую очередь перемены, вызванные массовой крестьянской колонизацией Казахской степи в конце XIX – начале XX века 110 110 Мало кто из исследователей уделил внимание этому вопросу. Единственное исключение – Pianciola N. Stalinismo di frontiera. Cap. 1–2. В этой главе я стараюсь опираться на наблюдения Пьянчолы, показывая, как инструментарий истории окружающей среды может дополнить экономический подход, которого он придерживается в своем исследовании.
. Эти перемены, которые советские чиновники иногда видели, а иногда – нет, способствовали их представлению, что степная экономика находится в состоянии кризиса и единственный способ сделать Казахскую степь экономически продуктивной – насильственно посадить кочевников-казахов на землю. В конечном счете воздействие перемен, начавшихся в эпоху Российской империи, усилило эффект резкого изменения курса советской власти и сделало казахский голод более интенсивным.
Эта глава начинается с определения места кочевого скотоводства в более широком контексте – истории Центральной Евразии 111 111 В самом широком значении термин «Центральная Евразия» включает земли от степей Украины на западе до тихоокеанского побережья на востоке и от сибирских лесов на севере до Тибетского нагорья на юге. О проблемах определения этого термина см. дискуссию в кн.: Perdue Р. China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia. Cambridge, MA, 2005. Р. 19.
. Здесь обозначаются важнейшие черты кочевого образа жизни и способы, при помощи которых кочевники регулярно приспосабливались к политическим и экологическим изменениям. Затем прослеживаются контакты казахов с Российской империей – процесс, который в XIX веке увенчался завоеванием Казахской степи. Рассматривается, как выглядела жизнь кочевников накануне крестьянского переселения, показываются тесные взаимоотношения между кочевыми методами ведения хозяйства и степной окружающей средой. Наконец, анализируется, как прибытие поселенцев-крестьян изменило различные грани этих взаимоотношений.
КОЧЕВОЕ СКОТОВОДСТВО И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ
Практика кочевого скотоводства в степной зоне Центральной Евразии насчитывает не менее четырех тысячелетий 112 112 См., например: Frachetti M.D. Pastoralist Landscapes and Social Interaction. Труд Фракетти основан на его работе в качестве археолога в Джунгарском Алатау, горном районе Семиречья на юго-востоке нынешнего Казахстана.
. В середине I-го тысячелетия до нашей эры североиранский народ скифов перебрался в западную степь и создал первую в истории региона кочевую державу. Греческий историк Геродот оставил знаменитое описание устройства скифской державы, уделив особое внимание скифскому мастерству конного боя и развитию торговли 113 113 Herodotus. The Histories / Transl. by T. Holland. New York, 2014. Рус. текст: Геродот. История / Пер. с греч. и коммент. Г.А. Стратановского. М., 1972.
. Впоследствии мусульманские географы давали Степи имена в зависимости от того, кто в ней жил. В начале VIII века нашей эры ее называли «Степь Гузов» – в честь тюрок-огузов. К XI веку получило распространение персидское имя «Дешт-и-Кипчак» – в честь кипчаков (половцев). Хотя после монгольского завоевания половцы перестали доминировать в Степи, название оставалось в ходу до XIX века, когда ему на смену пришел термин «Киргизская степь» 114 114 Bregel Y. An Historical Atlas of Central Asia. Boston, 2003. P. 2.
. Уже в советское время эту землю стали называть Казахской степью – имя, используемое и поныне. Этот пример показывает, что для многих история Степи – это история кочевников, связанная с образами воинственных всадников, совершающих набеги и свободных от стеснений оседлой жизни.
Но, как показали исследования, история кочевого скотоводства в Центральной Евразии значительно богаче, чем этот стереотипный образ. На протяжении веков кочевой образ жизни действительно господствовал в степных краях, в то время как оседлое население жило в оазисах или орошаемых долинах рек. Тем не менее находки археологов показывают, что в бронзовый век (3–2-е тысячелетия до нашей эры) в Степи наблюдалось заметное разнообразие видов экономической деятельности: если некоторые кочевые пастушеские общества уделяли особое внимание скотоводству, то другие занимались в первую очередь охотой 115 115 Frachetti M.D. Pastoralist Landscapes and Social Interaction.
. Ученые доказали, что начиная с эпохи неолита и до современности в зонах господства кочевников существовало земледелие, игравшее вспомогательную роль, в том числе выращивание таких засухоустойчивых культур, как яровая пшеница, просо и овес 116 116 Di Cosmo N. Ancient Inner Asian Nomads: Their Economic Basis and Its Significance in Chinese History // Journal of Asian Studies. 1994. Vol. 54. No. 4. P. 1092–1126.
. Эти выводы шли вразрез с традиционным представлением, что в Степи единственным способом прокормиться было отгонное скотоводство. С другой стороны, они показали, что климатические трудности, с которыми сталкивалось земледелие, не были чем-то постоянным 117 117 Taaffe R.N. The Geographic Setting // The Cambridge History of Early Inner Asia / Ed. D. Sinor. Cambridge, 1990. Тааффе предпочитает термин «Внутренняя Азия», а не «Центральная Евразия». Его определение Внутренней Азии включает в себя Казахскую степь.
. Эти и другие находки подтолкнули ученых к пересмотру взглядов на то, что представляло собой в действительности кочевое скотоводство Центральной Евразии и как оно менялось по прошествии лет 118 118 Ди Космо, например, опираясь на свои открытия, связанные с земледельческими практиками Внутренней Азии, оспаривает традиционную точку зрения, что кочевые скотоводческие общества были внутренне нестабильны, несамодостаточны и нуждались в оседлых обществах для удовлетворения своих самых базовых потребностей. См.: Di Cosmo N. Ancient Inner Asian Nomads. Противоположный взгляд – что кочевники Евразийской степи зависели от оседлого населения – отстаивает Анатолий Хазанов: Khazanov А. Nomads and the Outside World / Transl. by J. Crookenden. New York, 1983. Рус. текст: Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир: Избранные научные труды. СПб., 2008.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу