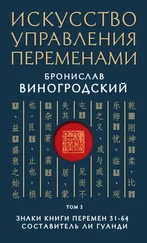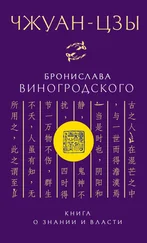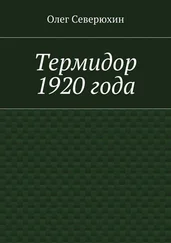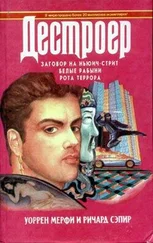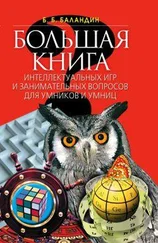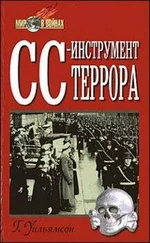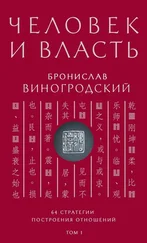Выражалась ли в этом дискурсе и языке спонтанность антитеррористических чувств? Или, скорее, эти чувства были продолжением политического конформизма, который существовал и до 9 термидора, и после него? На самом деле здесь можно увидеть оба феномена. Конвент тем лучше узнавал себя в стекавшихся к нему клятвах верности и поздравлениях, что те перефразировали, «в обстановке энтузиазма и под аплодисменты», его собственное послание и возвращали ему его собственный дискурс.
Глава III
«Ужас в порядок дня»
«Одной из любопытнейших черт этой странной эпохи было молчание, покрывавшее чудовищные деяния. Хотя Франция страдала от Террора, можно сказать, что она его не знала. Термидор был прежде всего освобождением, однако затем он стал и открытием: последовавшие месяцы преподносили сюрприз за сюрпризом» [102].
Кажется, что Кошен был немало удивлен этим истинным или наигранным «незнанием» реалий Террора страной, которая сталкивалась с ним ежедневно. Террор был повсюду, хотя его интенсивность варьировалась в зависимости от местных условий. Пусть не всегда в форме «чудовищных деяний» — массовых репрессий, но, по крайней мере, в виде бесконечной череды принуждений и притеснений: списки «подозрительных», вторжения в жилища, чрезвычайные налоги, крючкотворство, связанное с выдачей «свидетельств о благонадежности», высокомерие и жестокое господство во множестве маленьких городков всех тех, кто еще вчера едва осмеливался поднять голову. И молчание по поводу реалий Террора было одним из элементов самой «системы». Точнее, при Терроре не переставали о нем говорить, однако слово было монополизировано террористическим дискурсом, его риторикой, его символами и его идеологией. С трибуны Конвента, в газетах, на заседаниях народных обществ до изнеможения бичевали «врагов народа», «заговорщиков» и «умеренность». Bulletin du Tribunal révolutionnaire регулярно публиковал отчеты — порой о процессах, порой о более скорых видах суда; списки приговоренных к смерти были постоянной рубрикой в Moniteur, дополняя отчеты о заседаниях Конвента и Якобинского клуба. И в Париже, и во многих других городах гильотина функционировала публично (самое большее, ее перенесли с площади Революции ближе к окраине), и зрелище эшафота всегда привлекало зевак. Якобинский дискурс о Терроре как раз и имел целью легитимировать сей предмет, переводя его в символический план и сопровождая экзальтированными возгласами, чтобы скрыть уродливую реальность: грохот повозок, перевозивших заключенных; мерные удары ножа гильотины; грязь, промискуитет и эпидемии в переполненных тюрьмах; но также и нагнетание в глубине души каждого страхов и навязчивых идей, которые никто не решался открыто высказать, несмотря на то что они регулярно питались слухами, порожденными ежедневными репрессиями.
9 термидора не сразу стало «днем избавления». Первое широкое освобождение заключенных, отмена террористического закона от 22 прериаля и реорганизация Революционного трибунала последовали лишь за самыми массовыми парижскими казнями, когда 11 и 12 термидора препроводили на эшафот «робеспьеристов». Истинное избавление могло прийти лишь через освобождение слова: когда появилась возможность публично выразить страх и ненависть, когда через «разоблачения» стало известно о пережитых страданиях. Первые из этих разоблачений, в частности по поводу «заговора в тюрьмах», были сделаны с трибуны «обновленного» Якобинского клуба. Так, Реаль, который только что вышел из тюрьмы Люксембурга, поделился своим собственным опытом и призвал рассказать правду о Терроре.
«Чтобы по-настоящему питать отвращение к режиму, который недавно пал, мне кажется необходимым показать его омерзительные последствия. Возмущение добрых граждан должно подпитываться картиной тех бед, которые нас заставили претерпеть в тюрьмах. Пусть другие граждане, оказавшиеся в различных тюрьмах в результате преследований, расскажут об ужасах, свидетелями которых они стали; я же поведаю вам о том, что происходило в Люксембурге. Я не думаю, что революция — это дева, чью вуаль не следует поднимать, как говорится в некоторых докладах. Надевающий оковы режим, государство смерти, мрачное недоверие, написанное на всех лицах и глубочайшим образом впечатанное в души заключенных из-за подсаженных к ним шпионов, которые должны были готовить списки для Революционного трибунала, подбрасывать ему пищу; физическое и моральное состояние заключенных, — всё говорило о том, что Люксембург был одной гигантской могилой, предназначенной для того, чтобы поглотить живых» [103].
Читать дальше