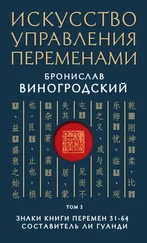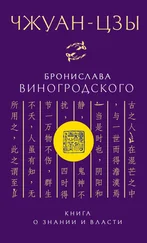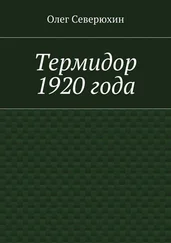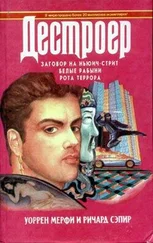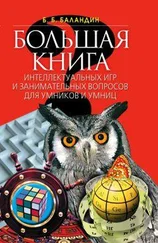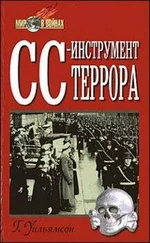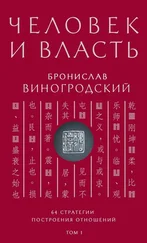«Миром правит общественное мнение. Истина эта затаскана и банальна, однако сегодня она может послужить основой для полезных размышлений. Люди слишком долго путали общественное мнение и мнение народа. Общество — это не народ; и крайне редко народ думает также, как общество. Сейчас это кажется парадоксом, однако вскоре станет признанной истиной. Начиная с 10 термидора, общественное мнение контрреволюционно. Почему же тогда контрреволюция еще не совершена? Потому что существует мнение народа, и оно сдерживает общественное мнение. В то время как аристократия мечется и производит много шума, народ, спокойный и бездеятельный, наблюдает, размышляет и молчит. Однако, как известно, молчание и бездействие народа весьма красноречивы» [62].
Это лишь один из множества парадоксальных эффектов 9 термидора, «принесшего с собой контрасты и имевшего весьма странные результаты». С одной стороны, «возвратив свободу, оно спасло Республику, вернуло достоинство национальному представительству, энергию — общественному мнению»; однако, с другой стороны, «оно заразило Республику грязными миазмами аристократии, вырвавшимися из клоаки тюрем; оно спровоцировало клевету и месть, к адрес патриотов; оно ослабило дух и действия революционеров». Тем самым эта газета позиционировала себя как представителя и глашатая «молчания народа» и делала это в весьма угрожающем тоне. «Народ выражает свое мнение, — продолжала газета в тот же день, — не посредством лицемерной лжи и лести, не посредством поздравлений и адресов. Его истинный язык — это язык, которым он говорил 31 мая, после завершения Конституции 1793 года и в великие моменты революции». Тальен прекрасно опроверг «подобные софизмы» и «выступил против проведения границы» между общественным мнением и мнением народа: «Вы утверждаете, что начиная с 10 термидора общественное мнение контрреволюционно. Неужели вы называете контрреволюцией тот глубинный страх перед тиранией, который поселился во всех душах, тот единодушный вопль против всех запятнанных в крови людей, против мошенников и расхитителей. Если вам кажется контрреволюцией жажда правосудия и стремление сплотиться вокруг Национального Конвента, тогда во Франции действительно 24 миллиона контрреволюционеров». Не признавать общественное мнение, придумывая мнение народа, — не что иное, как «иезуитство» (Шаль был каноником-расстригой), к которому прибегают те, кто не может больше скрываться и против кого высказался сам народ. «Народ стремится к правосудию, а не к произволу. Народ стремится покарать преступление везде, где его видит. Народ с ужасом отвергает варварство, несправедливость и аморальность. Пройдите по мастерским, предместьям, общественным местам — повсюду, где собирается народ, спросите его, что он думает о Каррье и Лебоне, и его единодушные слова убедят вас: общественное мнение — это и есть мнение народа» [63]. А необоснованно выдвигать себя в качестве выразителя мнения народа, противопоставляя его обществу, означает создавать, опираясь на это ложное различие, «новую аристократию», желающую оставить только за собой право говорить от имени общественного мнения.
Полемика и нападки в прессе были чрезвычайно характерны для пронизанной страстями политической атмосферы, установившейся на выходе из Террора. Абсолютно вписываясь в эту атмосферу, пресса только способствовала разжиганию страстей. Воспроизводя и подстегивая политические конфликты, раздиравшие Конвент и общественное мнение, она превратилась в чрезвычайно опасное политическое оружие. Каковы бы ни были интеллектуальные качества политической прессы, слишком легко впадавшей в инвективы, доносительство и сведение счетов, то, что по сравнению с эпохой Террора она стала более свободной, остается несомненным.
В результате изменения политической конъюнктуры ситуация стала новой de facto, однако она не была таковой с точки зрения закона. [64]Как мы уже отмечали, за недели, последовавшие за 9 термидора, Конвент принял ряд мер, внесших изменения в сложившуюся во времена Террора политическую систему. Однако ничего подобного не было сделано в области печати и регулирующих ее законов. Иными словами, ситуация была чрезвычайно двусмысленной, ведь Террор представлял собой особенно мрачный период в бурной истории свободы прессы времен Революции. Конституция 1793 года торжественно подтверждала свободу прессы как нечто само собой разумеющееся: «Право выражать свои мысли и мнения будь то в печати, будь то любым другим способом, право устраивать мирные собрания, свободное отправление культов не могут быть запрещены. Необходимость изложения этих прав предполагает либо наличие деспотизма, либо память о том, что он недавно существовал» [65]. Тем не менее сразу же после своего провозглашения Конституция 1793 года была заключена в «ковчег», а ее применение отложено до конца войны. Таким образом, она ничего не меняла в реальной ситуации, которая продолжала ухудшаться по мере утверждения якобинской диктатуры. Уже 9 марта 1793 года Конвент под давлением монтаньяров принял закон, требовавший от депутатов-журналистов выбирать между мандатом и газетой. Это была дискриминационная по отношению к жирондистам мера, направленная прежде всего против Бриссо и Горса, чьи газеты Пользовались огромной популярностью. «Прав человека более не существует; все естественные законы попраны; ночь пришла на смену достижениям четырех лет: личной свободе, свободе печати... Факция, желающая править во мраке, запретила депутатам-философам просвещать своих граждан», — заявил на следующий день Бриссо в Le Patriote français (№ 1306), объявляя о вынужденном самоустранении от дальнейшего руководства газетой. 29 марта 1793 года Конвент принял декрет о том, что призывы к возвращению монархии и нападки на частную собственность будут караться смертной казнью. После переворота 31 мая жирондистская пресса исчезла; закон о подозрительных устанавливал, что «будут считаться подозрительными все те, [...] кто либо своим поведением, либо своими связями, либо своими предложениями или писаниями выкажет себя сторонником тирании или федерализма, врагом свободы». 17 октября другой закон устанавливал личную ответственность издателей за все тексты, содержащие критику Конвента и Комитетов. Смертный приговор многих жирондистов был основан на том, что они писали в свою бытность журналистами. То немногое, что еще оставалось от свободы печати, исчезло вместе с репрессиями, обрушившимися на Le Vieux Cordelier, газету, которая отважно защищала именно свободу слова, и на эбертистов, вместе с которыми погиб Le Pure Duchesne. От прессы остались только те издания, которые якобинская власть тщательно контролировала, а часть из них и субсидировала. Эта пресса писала одно и то же и ограничивалась повторением основных речей, произносимых в Конвенте и Якобинском клубе. Несмотря на такое усердие, недоверие к журналистам и прессе не становилось меньше и регулярно выражалось с трибуны Якобинского клуба и Конвента [66].
Читать дальше