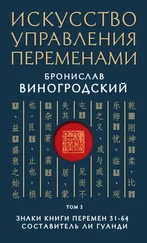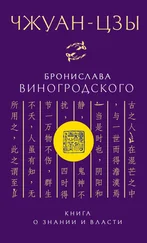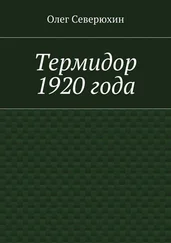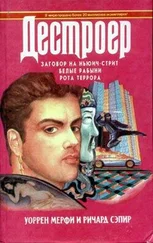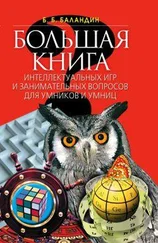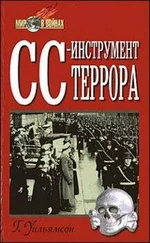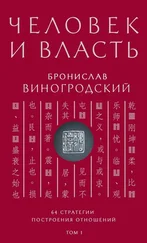Без сомнения, неограниченная свобода печати влечет за собой определенный риск; этот «факел рода человеческого» может стать вредным инструментом «в руках поджигателей». Однако по сравнению с преимуществами, которые предоставляет свобода печати, этот риск невелик. Декрет, который предложил Фрерон в завершение всех этих рассуждений, был весьма расплывчат; он представлял собой торжественную декларацию, подтверждающую принцип неограниченной свободы печати и осуждающую всякую попытку вернуться к практике Террора.
«Пресса свободна; никогда, ни по какой причине, ни под каким предлогом на нее не будет совершено посягательство, и этот закон не будет отменен. Любой законодательный корпус, любой правящий комитет, любая исполнительная власть, которая своими действиями посягнет на свободу печати либо будет ей мешать или же примет соответствующий декрет, одним только этим обозначит и подтвердит, что она участвует в заговоре против прав человека, против народа и против Республики» [68].
Подтекст речи Фрерона был шире, чем ее формулировки, и именно так она и была воспринята. Помимо прославления великих принципов, размышлений о будущем демократии, риторических пассажей население увидело в ней вполне конкретные политические предложения. Через месяц после 9 термидора настало время всеобщей подозрительности; везде мерещились интриги, подвохи, сомнительные маневры. Речь Фрерона с полным основанием воспринималась в контексте этой ситуации. Фрерон восхвалял свободу печати и рисовал привлекательную картину улучшения республиканских институтов; тем не менее он ничего не говорил о революционном правительстве, установленном «до заключения мира», и соответственно о чрезвычайном режиме, приостанавливавшем пользование конституционными правами. В этом плане подтверждение свободы печати и объявление ее неограниченной, не поднадзорной «какому бы то ни было Комитету», не означало ли, что ставится под вопрос сам принцип этого правительства? Фрерон говорил о важности свободы печати для Правильного функционирования представительного правления; тем не менее он даже не упомянул о народных обществах. Если пресса должна была стать в некотором роде заменой прямой демократии, то не теряли ли тем самым народные общества смысл своего существования? Не было ли придание печати исключительной роли в функционировании республиканских институтов хитростью для того, чтобы превратить ее в противовес власти Конвента и соответственно сделать из журналистов, этих «газетных писак», творцов общественного мнения, равных или даже превосходящих по важности представителей народа? Фрерон восхвалял величественный принцип свободы мнений и слова; но никто не забыл, как он сам использовал его в своем Orateur du peuple, — его ядовитое перо, бесстыдную демагогию, подлый переход на личности, что как раз и оправдывалось требованиями свободы печати. Фрерон восхвалял единство Конвента, обретенное и укрепившееся 9 термидора, однако в кулуарах Конвента ходил слух о том, что Тальен с Фрероном готовят новый «переворот» — 9 фрюктидора, которое должно было прийти на смену 9 термидора. Не было ли прославление единства наилучшим и многократно опробованным способом замаскировать политические интриги? Кроме того, в своей речи Фрерон намекал на необходимость наказания виновных. Не означало ли требование неограниченной свободы печати в тот момент, когда разносчики продавали на улицах Парижа «Охвостье Робеспьера», попытку превратить принцип, подаваемый как священный и неприкосновенный, в простой предлог для того, чтобы лучше подготовить политический реванш?
Конвент не пожалел поскупился на «бурные и продолжительные» аплодисменты в течение речи Фрерона, однако отказался проголосовать за предложенный проект закона и постановил отправить его в Комитет по законодательству, что было наилучшим способом его похоронить. Возражения и оговорки, проявившиеся в ходе дискуссии, были весьма многочисленны. Разумеется, никто не ставил под сомнение сам принцип свободы печати. Напротив, те, кто особенно возражал против принятия данного законопроекта, без устали подчеркивали «священный» характер этого принципа. Депутаты (по большей части монтаньяры) высказали немало возражений. Прежде всего, формальных: поскольку сам принцип был торжественно провозглашен в «кодексе прав человека», от которого Конвент не отрекался никогда, даже в самые тяжелые моменты «тирании», то подтверждение этого принципа абсолютно излишне. Высказывались возражения и против чрезмерно абстрактного характера законопроекта: мало было провозгласить свободу печати, весь опыт Революции показывал, что подобное провозглашение должно сопровождаться рядом ограничений, касающихся, в частности, злоупотреблений и клеветы, которые необходимо карать. А как можно вводить подобные ограничения, не ставя под сомнение неограниченную свободу печати? С другой стороны, разве эта свобода, сопровождаемая правом на полемику, не была сама по себе лучшей защитой от любых злоупотреблений? Если так можно выразиться, аргументы и возражения были классическими; и в самом деле, они возникали всякий раз, когда сменявшие друг друга собрания обсуждали законопроекты о печати. Таким образом, Конвент должен был одновременно и признать свободу печати (он уже сделал это в Конституции), и ограничить ее, приняв решение, для кого она существует, а также на практике определить ее рамки, совершенно не предусмотренные Конституцией. К этому добавлялись аргументы, теснейшим образом связанные с политической ситуацией: страна не находилась в «обычном состоянии». Следуя букве Декларации прав человека, Конвент не должен был декретировать создание наблюдательных комитетов, однако они единодушно были признаны необходимыми (Камбон). С другой стороны, означало ли определение свободы как безграничной, что роялисты и вандейцы могут провозглашать и публиковать свои политические идеи и, в частности, нападать на «чистых и неподкупных людей, пребывающих при исполнении обязанностей» [69](Амар)?
Читать дальше