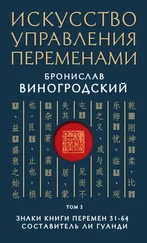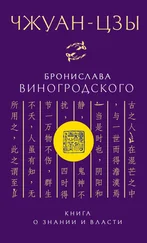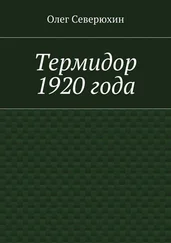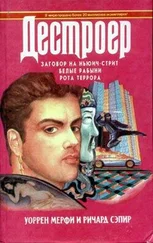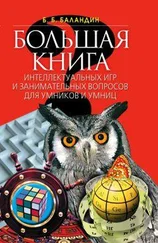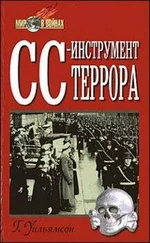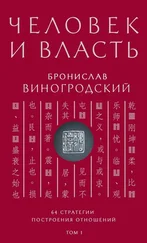Конвент принял решение открыть двери тюрем. Работа предстояла гигантская; при Терроре в более или менее импровизированных местах заключения содержалось около 500 000 человек; в июле 1794 года в Париже насчитывалось около 7000 заключенных. Тем не менее способы их освобождения после 9 термидора показывают те противоречия, которые возникали в ходе демонтажа системы Террора. Никакой амнистии провозглашено не было; закон о подозрительных — основная составляющая юридического механизма Террора — не был отменен, и соответственно сохранялась сама категория «подозрительный». В то же время статьи этого закона были настолько расплывчаты, что их можно было интерпретировать как угодно — «энергично» или «снисходительно». Причины ареста нередко оказывались столь же расплывчаты, сколь и вызвавшие их обвинения. Настаивать на соответствии этих причин закону означало открыть дорогу произволу. Таким образом, отныне Комитет общей безопасности располагал властью практически по личному усмотрению отпускать заключенных на волю, ссылаясь на тот же самый закон, благодаря которому они были арестованы. В департаментах же размах освобождения заключенных во многом зависел от степени «умеренности» представителя в миссии.
Первые освобождения из парижских тюрем сразу же вызвали волнения. Они положили начало цепной реакции, сходной с реакцией в стенах Конвента: они подпитывали политические конфликты и провоцировали как ожидания, так и страхи. Надеждам и энтузиазму тех, кто превозносил «правосудие, поставленное в порядок дня», противостояли страхи и недоверие тех, кто клеймил «снисходительность», игравшую на руку «аристократам» и другим врагам Республики.
«Насколько же по-другому выглядит нынче город Париж по сравнению с тем временем, которое предшествовало свержению нового Тиберия. Повсюду царило угрюмое молчание — предвестник смерти; друг не доверял другу, отец — своим детям; ныне же веселье и радость написаны на лицах всех граждан... Да здравствует Конвент! Да здравствуют наши достойные представители! Такие крики раздавались вчера на улице Турнон, когда Тальен в Люксембургском дворце заставил даровать свободу многим несправедливо арестованным патриотам. Туда стекались толпы народа, люди благословляли друг друга, обнимали друг друга, обнимали тех, кто только что вышел на свободу. «Не волнуйтесь, мои друзья, — сказал Тальен тем, кого он не смог пока что освободить из мест заключения, — вам не долго осталось тосковать по свободе; лишь виновные не смогут воспользоваться этим благодеянием. Я еще вернусь сегодня, я вернусь и завтра, [...] и мы будем работать день и ночь, пока последний несправедливо арестованный патриот не вернется к своей семье..." Слезы радости и чувствительности текли из всех глаз, и Конвент осыпали тысячами и тысячами благословений» [46].
Образы, без сомнения, умилительные; по большей части их распространяли те журналисты, которые не заглядывали дальше первых последствий новой политики. Но каков реальный масштаб этих освобождений? Кто эти «несправедливо арестованные патриоты» и по каким критериям их освобождать? Вопросы тем более насущные и непростые, что освобождение проходило в условиях, обрекавших его на неразбериху и лишавших прозрачности. Постоянно повторявшиеся обращения Комитетов общественного спасения и общей безопасности содержат немало признаков той лихорадочной атмосферы, которая воцарилась после декрета от 18 термидора: толпы людей осаждали приемные Комитетов, чтобы как можно быстрее раздобыть ордер на освобождение родственника или друга. «Вскоре, — обещал Барер 24 термидора, — следы личной мести исчезнут с территории Республики. Но наплыв граждан обоих полов, приходящих к дверям Комитета общей безопасности, может лишь задержать столь полезную для граждан работу... Так что мы призываем соотечественников положиться на гражданское рвение представителей народа в вынесении решений о судьбах заключенных и их освобождении... Здесь нет речи ни об амнистии, ни о милосердии; речь идет о правосудии, равном для всех правосудии». «Комитет [общей безопасности], — заверял Вадье три дня спустя, — без устали старается прийти на помощь угнетенным патриотам; однако работа задерживается осаждающими его аристократами; множество женщин преграждают в него путь; многие наши коллеги также ходатайствуют в пользу заключенных граждан. Невозможно, чтобы, совершая эту огромную работу, Комитет не допустил нескольких ошибок» [47].
Читать дальше