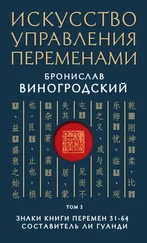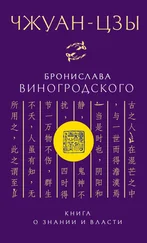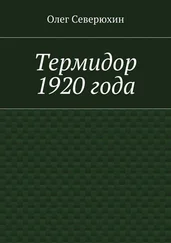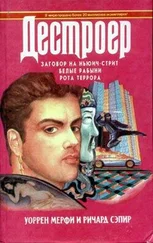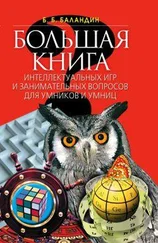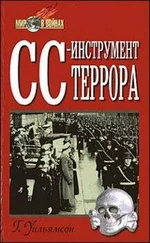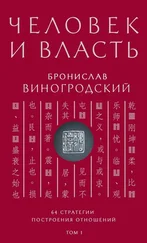В ходе дебатов 12 и 13 фрюктидора Террор был назван системой власти; обсуждалась легитимность Комитетов и законов. А 22 фрюктидора в Революционном трибунале начался суд над 94 нантскими нотаблями, за которым последовал суд над Революционным комитетом Нанта. Вся Франция узнала о том, какими жестокостями реально сопровождался Террор в Нанте. Увидела, как после нескольких недель разоблачений 3 фримера III года Конвент проголосовал — и вновь единогласно (два голоса «за» были поданы с оговорками) — за отдание под суд Каррье, непосредственно участвовавшего в Нантских событиях. 7 нивоза была создана комиссия для изучения возобновленных обвинений Лекуантра, которая должна была высказаться по поводу «поведения представителей народа: Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа и Барера». В представленном Саладеном докладе этой комиссии был сделан вывод о прямой и косвенной ответственности обвиняемых за Террор, формирование его системы и его преступления.
«Поставить правосудие в порядок дня»
«Мудрость общества должна прибегнуть к помощи вашей энергичной добродетели, а вам предстоит преумножить ее, истребив все остатки узурпации национальной власти, [...] вернув патриотам свободу и доверие, которых их лишили возведенные в систему уловки; поставив непреклонное правосудие на место бессмысленного Террора; напомнив об истинной морали, должной заменить лицемерие, и отправив в могилу сообщников развращенных политиков и других живых мертвецов, обременяющих свободную землю» [39].
На следующий день после 9 термидора власти заявили, что стремятся к правосудию, и торжественно пообещали «поставить его в порядок дня». Ни у кого не было сомнений: это означало разом отказаться от поставленного в порядок дня Террора, столь же торжественно провозглашенного 5 сентября 1793 года. Таким образом, «свержение тирана» приобретало характер кардинального поворота; оно должно было завершить эпоху, превратившую репрессии в систему власти.
Поставить правосудие в порядок дня... Это казалось более или менее расплывчатым обещанием на будущее, однако оно должно было безотлагательно пылиться в конкретные политические меры, отрицающие наследие Террора, которое можно было свести к трем проблемам:
- что делать с юридической и институциональной структурой, унаследованной от Террора?
- что делать с переполнявшими тюрьмы заключенными?
- что делать с политическими кадрами, скомпрометированными участием в репрессиях?
Без сомнения, такое деление схематично: на самом деле три проблемы составляли одну. Это наследие приходилось ликвидировать тем более деликатно, что, как мы видели, данная задача возлагалась на Конвент, который меньше года назад провозгласил, что «Террор будет поставлен в порядок дня», а затем одобрял деятельность наиболее экстремистских представителей в миссиях. Так к сложнейшей проблеме моральной, политической и юридической ответственности за репрессии добавлялась еще более деликатная задача отделения «террористических» законов и институтов, которые должны быть осуждены и ликвидированы, от собственно революционных репрессивных механизмов, которые следовало сохранить, несмотря на то что «террористы» злоупотребляли их использованием. Как провести ту, нередко трудноразличимую линию, которая отделила бы Террор, «несправедливый и достойный осуждения», от революционного правосудия, чьи намерения были столь же чисты, сколь и патриотичны, невзирая на порожденные усердием перегибы? На эти политические вопросы приходилось давать исключительно политические ответы. Размах и быстрота демонтажа Террора как системы власти, неотделимой от повседневных репрессий, во многом зависели от той скорости, с которой смогло бы воплотиться в жизнь обещание «поставить правосудие в порядок дня». Сам лозунг был принят после 9 термидора с единодушным энтузиазмом, однако конкретные меры, шаг за шагом проводимые в жизнь, очень быстро стали предметом ожесточенных столкновений, в которых происходила поляризация политических сил. К концу II года для одних политика «постановки правосудия в порядок дня» зашла слишком далеко: ее поборники выпускали из тюрем «аристократов» в чрезмерно большом количестве, и те начали подавлять «патриотов»; всех стали именовать не иначе как «новыми снисходительными», «умеренными», «новыми правыми». Для других — вскоре их начнут называть реакционерами, однако сами они все более полагали себя «истинными» наследниками 9 термидора — правосудие никогда не может зайти слишком далеко, и те, кто противостоит его укоренению, — не иначе как замаскировавшиеся робеспьеристы, «террористы» или даже якобинцы. Чем больший накал приобретала политическая борьба, тем агрессивнее, хотя и не всегда яснее, становилась и лексика. Участники политических баталий так и не смогли избавиться от амбивалентности и неопределенности, характерных для новой политической ситуации [40], которые особенно ярко проявились в организации новой, по большей части импровизированной, юридической системы.
Читать дальше