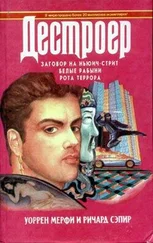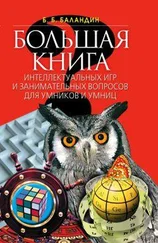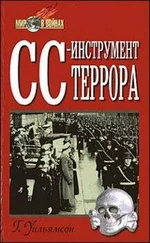В те последние дни лета II года, через два месяца после прериальского закона, когда тюрьмы были переполнены подозрительными, а Революционный трибунал не заседал лишь по последним дням десятидневки (единственное исключение было сделано 10 термидора: он собрался, чтобы «установить личности» Робеспьера и его сторонников), никто не осмеливался поставить публично проблему выхода из Террора (9 термидора, когда в Конвенте бушевало сражение с Робеспьером, гильотина продолжала работать, и никто и не подумал приостановить казни). Чтобы обозначить эту проблему, чтобы «поставить ее в порядок дня» на уровне правительства или Конвента, было необходимо, чтобы в реальности выход из Террора уже начался. И в самом деле, после «весны побед» и освобождения территории страны Террор был лишен своей основной опоры — той легитимности, которую ему обеспечивали разговоры о войне и о необходимости защищать Республику от внешней угрозы [22](к тому же ходили упорные слухи о том, что мир неминуем). После ликвидации «факций» — дантонистов и эбертистов — все политические дебаты, какими бы скромными они ни были, ушли в небытие, поскольку превозносились единодушие и неделимость Народа.
Основу и оправдание Террор находил лишь в своем собственном дискурсе, смешивающем воедино осуждение снисходительности и прославление республиканских добродетелей. Разве они не призывали к постоянной бдительности, разве не шли они рука об руку с тем, что стало при Терроре обычным делом: казнями, доносами, парализующим страхом? Неразрывно связанный с отправлением власти, Террор занял собой все политическое пространство и в рамках этой власти сразу же блокировал все дебаты о том, какой политический курс следует избрать. Разногласия внутри правительства, каковы бы ни были их предметы и причины, начавшись с личных раздоров и ссор, усугублялись взаимным недоверием и подозрениями. (В нашу задачу не входит исследование этих многочисленных разногласий; тем не менее показательно, что особенно ожесточенными были споры о контроле над полицией.) Любой конфликт, даже не самый значительный, мог оказаться между шестеренок Террора и быть разрешен при помощи предлагаемых им механизмов. При этом предпочитали один-единственный инструмент... Не названная и не называемая проблема — «что делать с Террором?» — была в одно и то же время и вытесненной, и навязчивой. Эта проблема оказывалась по преимуществу политической, касающейся революционной власти, и ставками здесь становились сами жизни находившихся у власти людей. Эта проблема была неотделима от личности Робеспьера. В системе власти, родившейся из желания «сделать Революцию более радикальной, более соответствующей ее дискурсу», Робеспьер после праздника Верховного существа и прериальского закона занимал особое место, соединив в себе в конечном итоге Добродетель и Террор [23]. Что делать с Террором? Как из него выйти? Ответы на эти вопросы не могли миновать Робеспьера. Они должны были либо исходить от него, либо обратиться против него. Они могли быть сформулированы лишь в понятиях отвлеченных и тем более запутанных, что обязанность отвечать возлагалась на самих «террористов», на творцов Террора. И они не могли претворить их в жизнь иначе как террористическими методами. Вот как это формулирует Марк-Антуан Бодо, депутат Конвента и монтаньяр, бывший и внимательным наблюдателем, и непосредственным участником тех событий: «из того безвыходного и бесчеловечного положения, в котором находилась республика перед 9 термидора, из этой ужасной ситуации невозможно было выйти, минуя смерть Робеспьера или предание его остракизму... Таким образом, в борьбе, развернувшейся 9 термидора, речь шла не о принципах, а об уничтожении». [24]
Как показывают споры, ведущиеся уже на протяжении двух веков, политический проект Робеспьера между прериалем и термидором может быть интерпретирован различными способами. Хотел ли он приступить к выходу из Террора, что означало бы его скорое прекращение — на эти мысли наводит ряд фрагментов речей Робеспьера, и в особенности осуждение наиболее кровавых «террористов» (в частности, тех представителей в миссиях [25], которые отличались самоуправством и коррупцией)? Хотел ли он, напротив, продолжить Террор, сделать его еще более кровавым, еще в большей степени подчинить себе Конвент — эти намерения просматриваются в других частях тех же самых речей, и в особенности в том неусыпном надзоре, который Робеспьер осуществлял за деятельностью Революционного трибунала и за полицейскими репрессиями? Или же у него вообще не было никакого политического проекта, кроме укрепления свой личной власти и сведения счетов со своими противниками в Комитетах и Конвенте? Был ли он поражен своего рода параличом, колебался ли между противоречащими друг другу проектами, что и привело его в итоге к безвыходной ситуации? Эти споры тем более бесплодны, что они отягощены страстями, которые возбуждает как Террор, так и личность Робеспьера. Но не воспроизводят ли эти дебаты в другой тональности двойственность и противоречия, неотделимые от политической конъюнктуры конкретного момента? Не в том ли дело, что политический проект Робеспьера порождает множество истолкований, поскольку содержит скрытые двусмысленности? Этот проект не противоречив; напротив, именно в силу характерной для него политической логики Робеспьер, столкнувшись с проблемами, назревавшими в преддверии Термидора, тонет в двусмысленностях. Все выглядело так, словно он продолжал следовать тому же плану, которым успешно руководствовался на всем протяжении Революции, однако этот план дал сбой, как только Робеспьеру пришлось отвечать на незаданный вопрос: что делать с Террором, с той системой революционной власти, которая возникла именно благодаря успеху этого плана? Из слов и поступков Робеспьера вырисовывается идея-образ Террора, очищенного собственной низостью, и соответственно план действий, включающий в себя одновременно и усиление, и ослабление Террора.
Читать дальше