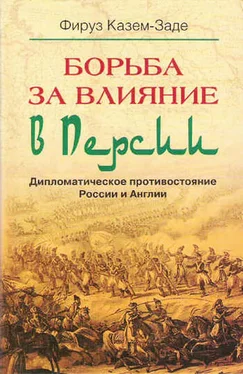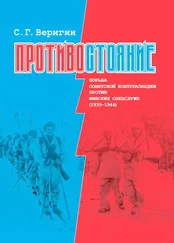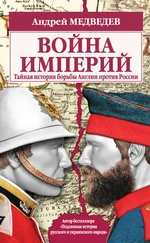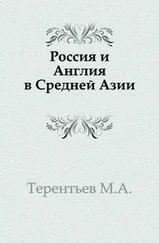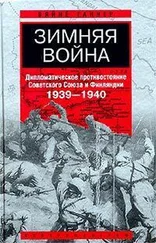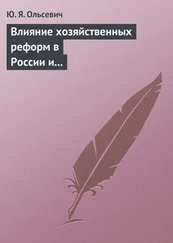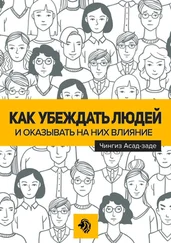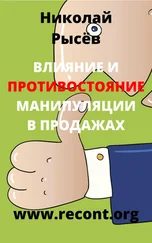Два года, предшествовавшие Первой мировой войне, не внесли в персидскую ситуацию почти никаких изменений. Правительство по-прежнему тонуло в море нерешенных проблем, не имея средств для их решения. Это был вечный банкрот. По оценке Поклевского, в июне 1912 г. Персия была должна иностранным государствам около 12,5 миллиона туманов. Две державы вели долгие и сложные переговоры между собой и с новым генеральным казначеем, противником и преемником Шустера, бельгийцем Морнаром. Россия готова была снабжать послушное тегеранское правительство деньгами, но за это всегда приходилось платить.
Русское правительство, после долгих дискуссий между различными министерствами, потребовало у Тегерана железнодорожную концессию от Джульфы до Тебриза, воскресив старую схему Фалькенхагена. Персы согласились на переговоры, однако выразили «надежду, что российское правительство примет во внимание ситуацию, в которой находится правительство этой страны в отношении основных законов государства». Поклевский резко заявил кабинету, что подобные заявления «неопределенны» и «неуместны». С этого момента на все просьбы персов о деньгах Россия отвечала одинаково – требованием о предоставлении железнодорожной концессии.
Наконец, 6 февраля 1913 г. персидский кабинет подписал соглашение с инженером М. Подгурским и русским Учетно-ссудным банком о концессии на строительство и управление в течение семидесяти пяти лет железной дорогой Джульфа – Тебриз с веткой до Урмии. Банку также предоставлялось право разрабатывать запасы угля и нефти, если таковые будут обнаружены на расстоянии до шестидесяти миль по обе стороны железнодорожной линии. Компания, которая будет управлять железной дорогой и разрабатывать полезные ископаемые, будет исключена из персидской налоговой системы. Она будет выплачивать персидскому правительству половину своей чистой прибыли от работы железной дороги и 5 процентов чистой прибыли от добычи угля и нефти. Все акции железной дороги Джульфа – Тебриз принадлежали России, ее совет директоров состоял исключительно из русских, причем большинство их были функционерами Министерства финансов. Был там и аристократ с громким именем – князь Алексей Голицын.
Один из российских экспертов писал: «Таким образом, мы имеем перед нами типичную русскую правительственную железную дорогу, построенную на территории иностранного государства. Но разве современная Персия, по крайней мере ее северные провинции, представляет собой иностранную территорию для русского правительства?»
В самом деле, большинство русских уже не думали о Персии как о независимом государстве и выражали это поговоркой «курица не птица, Персия не заграница».
Исчезновение на севере какой-либо правительственной власти было настолько очевидным, а действия русских консулов настолько бесстыжими, что британцы начали, хоть и неохотно, делать представления Сазонову и даже царю. В июне 1914 г. Бьюкенен предупредил Николая II, что развитие дел в Персии «может оказаться фатальным для англо-русского взаимопонимания». Он указал: «Непредвиденные события привели к оккупации некоторых районов в Северной Персии русскими войсками, и мало-помалу весь механизм управления оказался в руках русских консулов. Генерал-губернатор Азербайджана – всего лишь марионетка, он получает и выполняет приказы русского генерального консула, и то же самое можно сказать о губернаторах Решта, Казвина и Джульфы. Все они – агенты русского правительства и действуют независимо от центрального правительства в Тегеране. Обширные участки земли в Северной Персии приобретались незаконными методами; большое количество персов превращались в русских подданных; налоги собирали русские консулы вплоть до полного исключения агентов персидской финансовой администрации. Вышеописанная система постепенно распространялась на Исфахан и даже на нейтральную зону. У нас не было ни малейшего желания оспаривать преобладающий интерес и положение России на севере, но мы возражали против методов, с помощью которых утверждалось это превосходство, и попыток распространить его на нейтральную зону».
Царь утверждал, что оказался в этой ситуации вынужденно и против воли. Он готов был вывести свои войска из Персии и распорядиться, чтобы комитет министерства иностранных дел провел расследование деятельности русских консулов.
Конечно, никакого расследования не было. На персидское правительство по-прежнему не обращали внимания. Российские граждане продолжали скупать большие участки земли во всех северных провинциях. Закон запрещал иностранцам владеть недвижимостью, но этот запрет обходили с помощью взяток чиновникам, или регистрировали землю на имя персидских партнеров. Даже государственные служащие не обращали внимания на желания кабинета. Казачья бригада отказалась повиноваться приказам и проводить любые операции без одобрения ее русского командира князя Вадбольского. Непрекращающиеся жалобы Восуга од-Дойлы вынудили Сазонова написать русскому поверенному в делах в Тегеране и распорядиться проверить жалобы и поговорить с Вадбольским, «которому следует, по мере возможности, удовлетворять справедливые требования правительства». Таким образом, Вадбольскому оставили право решать в каждом отдельном случае, какой из приказов правительства справедлив, а какой нет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу