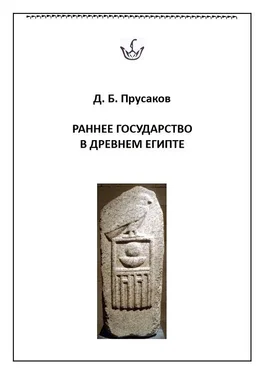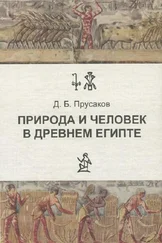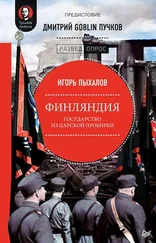Вместе с тем вооруженная сила не могла быть единственным средством разрешения раннединастических междоусобных конфликтов [ср.: Wildung 1984 ] — хотя бы потому, что на том этапе при характерной для него материально-технической и административно-хозяйственной незрелости египетского общества, с также "неблагосклонной" к человеку экологии пойменной части вмещающего ландшафта Египта, военная гегемония не то чтобы какого-нибудь вождя, но и самих тинитских царей априори не имела ближайшей перспективы. В таких условиях никак не менее (если порой не более) предпочтительными и эффективными, чем войны, должны были казаться и объективно оказываться мирные способы улаживания разногласий между Тинитским царством и "оппозиционными" вождествами. Не с этим ли связано, например, то обстоятельство, что к звучащим в хоровых именах ранних династов устрашающим мотивам избиения (Аха), захвата (Джер), съедения (?) (Семерхет) примешивается настроение умиротворения (Хотепсехемуи — двух скипетров, Хасехемуи — Хора и Сета)? Иными словами, не последнее место во взаимоотношениях разрозненных раннеегипетских царских и вождеских территориальных владений как перманентно конфликтующих анклавов, балансирующих на грани войны и мира, должен был занимать мирный договор.
Скрепить такой договор древний властитель мог по-разному, например, щедро оделив иноплеменных предводителей материально, вещественными дарами, или ритуально, справив обряд, приятный ублажаемой стороне. Не исключено, что Палермский камень отразил подобное явление в сообщениях о сооружении раннединастическим и царями в различных регионах Египта святилищ "крепости богов" [ Schäfer 1902 , Taf. I, 2, № 7; 3, № 6–8; 5, № 10], предположительно олицетворявших заключение Тином союза с божествами местного значения [ Kaplony 1962 ] — т. е., по сути, с вождеско-жреческими верхушками соответствующих общин. Это мероприятие, причислявшееся тинитским и правителями к важнейшим событиям их царствований, выглядит одновременно как дар ритуальный, в форме почитания "столичной" администрацией "провинциальных" идолов-"тотемов", и материальный, воплощенный в постройке как таковой, причем последний, вероятно, включал также регулярно совершавшиеся в "крепостях" жертвоприношения [ Савельева 1992 ], о которых напоминает сохранившееся название одного из святилищ этой группы: "Возлияние богов" [ Schäfer 1902 , Taf. 1, 5, № 10].
Такого рода "знаки внимания" на высшем уровне архаических межплеменных или межклановых контактов в Египте, несомненно, предусматривали взаимность. Косвенно на это указывают данные Палермского камня, который, поведав о создании очередной "крепости богов", продолжает рисовать мирную картину правления — например, с последующим "сопровождением Хора" — без признаков вооруженных столкновений, неизбежных в случае отказа стороны, принявшей царский дар, возместить его адекватным образом: ответными дарами, выражением лояльности и т. п. Только одно из сообщений Камня о сооружении святилищ рассмотренного типа соседствует с батальной "сценой": разрушением некоего поселения под названием wr k (Велик Двойник?) [ Schäfer 1902 , Taf. I, 3, № 10], что, однако, произошло, согласно летописи, спустя два года по завершении строительства божницы, и нам трудно судить о причинах, вызвавших усобицу.
В целом феномен вещественных ценностей — продовольствия, имущества, земель, — а также церемониальных, трудовых и прочих услуг, циркулирующих в архаических обществах сравнительно невысокого уровня самоорганизации (к каковым, особенно в свете анклавной гипотезы, мы считаем себя вправе отнести население по крайней мере раннединастического Египта), определяется понятием "дарообмен" [ Мосс 1996 ]. Социоантропологическая "теория" дара делает упор на его "антиэкономичном" характере, далеком от современных соображений материальной выгоды и несовместимом с развитием рациональных рыночных отношений. За обменом подарками — древнейшим суррогатом экономики, воплотившим обязанность родовитых и имущих общинников дарить, принимать и возмещать — стояли магические воззрения, свойственные первобытному сознанию. Возможность и готовность одаривать, жертвовать или как-то иначе транжирить накопленное добро (включая его бесполезные порчу или уничтожение), а также обеспечивать общественно-значимые мероприятия силой авторитета и власти отвечали, помимо морали социального долга (щедрость соразмерна богатству), представлениям об особом, покровительственном отношении к дающим духов и богов — истинных владельцев всех земных и небесных благ. Таким образом, демонстративная расточительность служила признаком близости, а то и родства с обитателями потустороннего мира и, подавляя достоинства соплеменников, неспособных выступить в том же качестве, являлась непременным условием достижения и сохранения высокого социального статуса, иерархического ранга и т. п.
Читать дальше