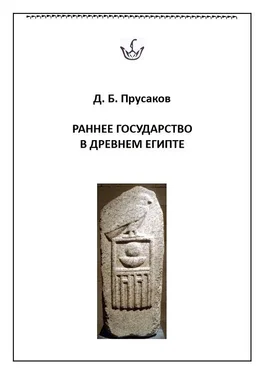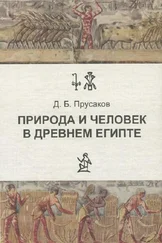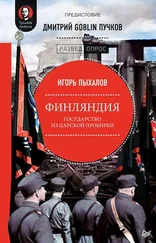В то же время отказ вождя дать — в возмещение своего богатства и, особенно, по обязанности, налагаемой на него общественным положением — был чреват серьезными неприятностями, как то: утрата личной сакральности, развенчанье и даже насильственная смерть "банкрота" от рук собственных приближенных. Умерщвление немощных вождей, "потерявших" связь с духами природы и оттого лишившихся способности обеспечивать свои племена требуемыми для их выживания дарами свыше в виде благоприятных погодных условий, большой охоты, прироста стад и обильных плодов земли, по-видимому, довольно широко практиковалось в доисторической долине Нила [cp.: Stork 1973 ], о чем напоминает хеб-сед — важнейший в древнем Египте обряд восстановления жизненных сил фараона по прошествии определенного срока его пребывания на престоле [ Матье 1956б; Hornung, Staehelin 1974 ]. В том же контексте "добровольно-принудительного" дарообмена, очевидно, целесообразно рассматривать и древнюю идеологию божественной царственности [ Вейнберг 1986; Frankfort et ai 1967 ], среди элементов которой выделялся долг правителя как гаранта производительных сил страны отвечать за благосостояние подданных, оплачиваемый их преданностью. С этой точки зрения весьма символичен фараон, ежегодно бросающий в Нил указ о начале разлива [ Матье 1956а ]; столь же примечательно и предположение о договорном характере отношений богов с фараонами, пользовавшимися милостью своих небесных "сородичей" взамен пропаганды и материального обеспечения их земного культа ("do ut des") [ Posener 1955 ].
Формула "даю, чтобы ты дал", однако, далеко не в полной мере вскрывает феномен архаического дарообмена. Необходимо учитывать, что подарок, будучи частью духовной и физической субстанции дарителя, обладал огромной магической властью над получателем, который с момента принятия преподношения попадал в тяжкую зависимость от "благодетеля" Дар требовалось возместить в установленные сроки, чтобы он воссоединился с породившей его почвой и не преследовал должника, чиня ему разные напасти, грозя разорением и даже погибелью. Вместе с тем отвергать дар, сулящий получателю столько осложнений, было опрометчиво, ибо это могло быть понято как признание неспособности предложить — оторвать от себя достойную компенсацию, равносильной, говоря современным языком, поражению в социальных правах. Заложенный в основу такого мировоззрения принцип слияния личности и принадлежащих ей вещей, по-видимому, активно действовал в Египте Старого царства, о чем позволяет догадываться характерная для той эпохи социально-экономическая" категория dt , подразумевавшая собственность "от плоти" обладателя — как правило, важного сановника [ Перепелкин 1966, 1988б ].
За знатным сословием отмечено особо ревностное отношение к выполнению обязательств по возмещению принятого дара или услуги от вождей и, тем более, нижестоящих соплеменников, объяснявшееся боязнью нарушить "этикет" и лишиться привилегированного положения. Глубина социального падения вследствие "неуплаты по счетам" простиралась вплоть до потери статуса свободного человека, эволюционировавшей в древнейший институт долгового рабства, в котором нашла отражение идеология превосходства дарителя над одариваемым. Как известно, унизительные физические наказания родовитых администраторов, допускавших просчеты в управлении вельможескими хозяйствами, и рабство за долги являлись отличительной чертой социальной жизни Египта второй половины Старого царства [ Перепелкин 1988а, б ], и мы бы не исключали вероятность того, что за этими феноменами, помимо чисто хозяйственных проблем староегипетского государства, вступавшего в эпоху Второго социально-экологического кризиса [ Клименко, Прусаков 1999; Прусаков 1999в ], стояла и реакция властей на массовое нарушение освященного обычаем принципа дарообмена. Лишь эквивалентное возмещение даров позволяло "сохранить лицо", доказав свое равенство с "кредитором", а возмещавшие с избытком состоятельные общинники и вовсе могли претендовать на независимость от кого бы то ни было, включая высших вождей. Те, в свою очередь, не должны были уступать в щедрости: власть и богатство магически принуждали их к самому безудержному расточительству материальных ценностей и социальных услуг в пользу представителей как собственного, так и чужих кланов и племен, входивших в систему обоюдных обязательств.
Из рассмотренного здесь принципа взаимного обмена подарками, ритуалами и иными благами, лежавшего в основе первобытной общественно-политической организации, вытекает "парадоксальный" вывод: чем больше знаков почета выпадало на долю архаического правителя, забиравшего верховную власть в регионе, со стороны глав конкурирующих общин, тем больше уважения, подкрепленного соответствующими действиями, он вынужден был проявлять к их персональному и в целом социальному статусу — особенно при неспособности раз и навсегда устранить межплеменные противоречия военной силой. Иными словами, по-видимому, чем ближе пытался вождь (в нашем случае — тинитский династ) подобраться к желанной ступени самодержавной власти, тем выше его же долг ответного дара поднимал по иерархической лестнице тех, кому, казалось бы, была уготована роль ущемленных в правах подданных: членов местных правящих кланов, формировавших номовую элиту.
Читать дальше