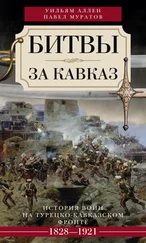Скульптура является на Крите искусством второго ряда и, не считая барельефа с сюжетом мифа о Дедале, редко перерастает в нечто большее, чем статуэтка. Многие из этих фигурок сработаны грубо и по шаблону, словно бы мастер трудился над ними совершенно механически. Одна из них — «моментальный снимок» из слоновой кости, запечатлевший воспарившего в воздухе атлета; другая — это милая головка, расставшаяся с телом много веков назад. Лучшие из них анатомической точностью и живостью действия превосходят все, что нам известно из Греции до эпохи Мирона. Самая странная — это Богиня со змеями из Бостонского музея: грубая фигура из слоновой кости и золота, состоящая наполовину из сосцов, наполовину из змей; здесь, наконец, художнику-критянину удается довольно масштабная и успешная трактовка человеческого тела. Но, запечатлевая более крупные фигуры, в большинстве случаев он возвращается к животным и ограничивается расписными рельефами, как в случае с головой быка из музея Иераклиона; неподвижные дикие глаза, храпящие ноздри, задыхающаяся пасть, дрожащий язык этого поразительного памятника достигают мощи, которую не сможет превзойти и сама Греция.
Живопись — самое впечатляющее из критских искусств. Скульптурой можно пренебречь, керамика — фрагментарна, архитектура лежит в руинах; но самое хрупкое из искусств, падающее легкой жертвой равнодушного времени, оставило явственные и восхитительные шедевры, столь древние, что они стерлись из памяти той классической Греции, от чьей живописи — в отличие от живописи Крита, такой молодой — не сохранилось ни единого подлинника. Землетрясения и войны, которые ниспровергли критские дворцы, сохранили кое-где украшенные фресками стены. Бродя вокруг них, мы как бы преодолеваем сорок столетий и встречаем тех, кто украшал покои минойских царей. Уже около 2500 г. до н. э. они белят стены чистой известью и усваивают идею создания фресок на влажной поверхности, водя кистью столь стремительно, что цвета впитываются штукатуркой прежде, чем поверхность успевает подсохнуть. В темные залы дворцов они приносят залитую светом красу полей; их штукатурка прорастает лилиями, тюльпанами, нарциссами и садовым майораном; видевший это никогда не согласится с тем, что природу открыл Руссо. Собирателю шафрана из музея Иераклиона так же йе терпится приступить к сбору цветов, как и в те среднеминойские дни, когда он был создан художником. Его талия до нелепости тонка, тело кажется слишком длинным по сравнению с ногами; и тем не менее голова его совершенна, цвета отличаются мягкостью и теплотой, цветы так же свежи, как и четыре тысячи лет назад. В Агии Триаде художник расцвечивает саркофаг спиралевидными завитками и диковинными, чуть ли не нубийскими фигурами, которые погружены в некий религиозный обряд; мало того, он украшает стену волнующейся листвой, а затем в гущу ее помещает — очерченного смутно, но живо — жирного, напрягшегося кота, который вот-вот набросится на гордую птицу, самодовольно греющую на солнце свои перья. В позднеминойскую эпоху художник — на вершине успеха; каждая стена манит его, каждый плутократ посылает за ним; он расписывает не только резиденции царей, но и дома аристократов и зажиточных горожан со всей щедростью Помпей. Вскоре, однако, успех и чрезмерность комиссионных испортят его; он слишком радеет о законченности, чтобы достичь настоящего совершенства; он расточает количество за счет качества, монотонно повторяется, рисуя свои цветы, изображает неправдоподобные человеческие фигуры, довольствуется беглыми набросками и впадает в апатию мастера, знающего, что его искусство миновало свой апогей и должно умереть. Но никогда прежде, за исключением, быть может, одного лишь Египта, перед лицом природы живопись не выглядела столь свежей.
При возведении критских дворцов сошлись все искусства. Политическая власть, коммерческое могущество, богатство и роскошь, возросшая культура и вкус рекрутируют архитектора, строителя, мастерового, скульптора, гончара, обработчика металлов, работника по дереву и живописца, чтобы, сплавив свои искусства, они произвели на свет совокупность царских покоев, канцелярий, придворных театров и арен, которая будет служить средоточием и вершиной жизни Крита. Они строят в двадцать первом веке, а двадцатый становится свидетелем крушения их творений; в семнадцатом веке они вновь возводят не только дворец Миноса, но и множество прочих блестящих зданий в Кноссе и в полусотне других городов цветущего острова. То была одна из великих эпох в истории архитектуры.
Читать дальше