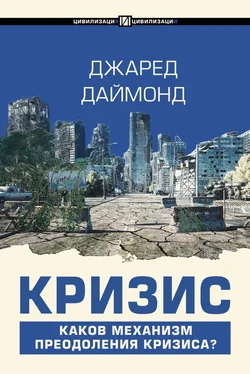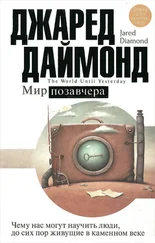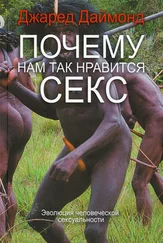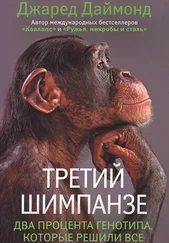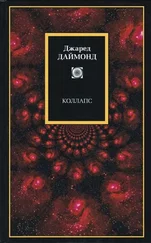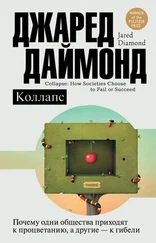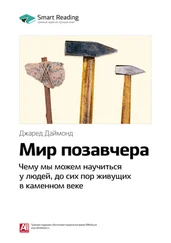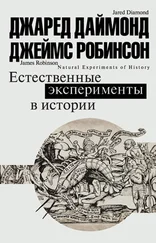Наша небольшая выборка побуждает выдвинуть два соображения, истинность которых полезно проверить той же методикой, какой пользовались Джонс и Олкен, то есть набрать достаточное количество исходных данных, провести натурный эксперимент и оценить количественный итог.
Одно соображение связано с тем фактом, что среди демократических лидеров, которых чаще всего называют влиятельными (Рузвельт, Линкольн, Черчилль и де Голль), трое добились наилучших и наибольших результатов в военное время. Почти все президентство Линкольна пришлось на американскую гражданскую войну. Черчилль, Рузвельт и де Голль трудились и в военное, и в мирное время, но минимум двое из них, если не все трое, считаются именно эффективными военными лидерами (Черчилль как премьер-министр в 1940–1945 годах, но не как премьер-министр в 1951–1955 годах; де Голль как генерал, а затем президент в период восстания в Алжире в 1959–1962 годах; и Рузвельт после начала Второй мировой войны в Европе в 1939 году, а также во время Великой депрессии). Эти результаты соответствуют наблюдению Джонса и Олкена, что лидеры оказывают тем больше влияния, чем меньше ограничений на их власть: демократические лидеры добивались весомых достижений в военное время.
Другое соображение, вытекающие из наших данных, состоит в том, что лидеры приобретают наибольшее влияние в условиях, когда они сталкиваются с сильным противодействием (не важно, при демократии или при автократии), с оппозицией, требующей совершенно другой политики, в ситуациях, когда они в конечном счете побеждают благодаря, как правило, осторожным и последовательным шагам. Примерами могут служить премьер-министр Пьемонта Кавур и канцлер Пруссии Бисмарк, которые постепенно сумели объединить Италию и Германию соответственно, преодолев сильное сопротивление иностранных держав, граждан итальянских и немецких княжеств и даже собственных монархов; Черчилль, напомню, убедил первоначально расходившийся во мнениях британский военный кабинет отвергнуть предложение лорда Галифакса по заключению мира с Гитлером, а затем уговорил американцев считать первоочередной задачей войну против Германии, а не войну с Японией (исходно как раз Япония была мишенью для США после нападения на Перл-Харбор); Рузвельт постепенно готовил США к участию во Второй мировой войне вопреки настояниям американских изоляционистов; де Голль постепенно убеждал своих соотечественников и алжирцев согласиться на мирные переговоры, призванные решить вопрос о независимости Алжира; Сухарто исподволь оттеснял популярного президента и «отца Индонезии» Сукарно; а Вилли Брандт уговаривал западных немцев смириться с суровыми реалиями и признать утрату большей части бывшей немецкой территории, несмотря на ожесточенное сопротивление партии ХДС, которая до этого непрерывно управляла Западной Германией на протяжении двух десятилетий.
* * *
Эта книга представляет собой первый шаг в реализации программы сравнительного исследования национальных кризисов – мы исследовали небольшую выборку государств нарративными методами. Возможно ли расширить границы исследования и углубить наше понимание описанных процессов? Предлагаю два способа: увеличить масштабы выборки и ввести в нее фактор случайности, а также предпринять более строгий анализ, что позволит преобразовать результаты и гипотезы из словесной формы в операционализированные переменные.
Что касается выборки, наш набор государств для рассмотрения не только чересчур мал; его элементы подобраны вовсе не случайно. Я выбрал эти страны не потому, что они образуют некое спонтанное подмножество из 216 стран мира, а потому, что все они могут считаться хорошо изученными лично мной. В итоге у нас есть два европейских государства, два азиатских, по одному из Северной и Южной Америки и Австралия. Пять из этих семи стран относятся к богатым. Все семь в настоящее время являются демократиями, хотя две пережили период диктатуры, о котором я рассказываю. Все страны, кроме Индонезии, обладают долгой историей независимости или (в случае Финляндии) автономии и сильными государственными институтами. Лишь одна из стран сравнительно недавно победила колониализм и стала независимой. В списке отсутствуют какие-либо африканские страны и все нынешние диктатуры, равно как и беднейшие государства. Шесть стран, которым ранее доводилось оказываться в кризисе, справлялись с ним так или иначе, с разной степенью успешности. Ни одна не может считаться образчиком категорического отказа от стимулируемых кризисом выборочных изменений. Словом, ясно, что нашу выборку нельзя назвать случайной, а потому следует, вероятно, ее расширить, чтобы оценить, к каким выводам может привести более представительный набор исходных данных.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу