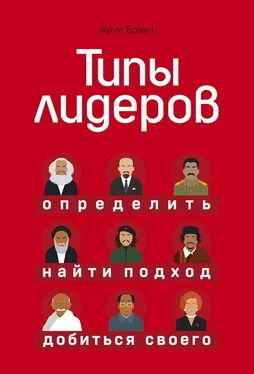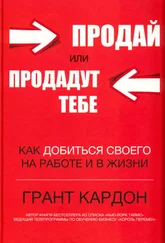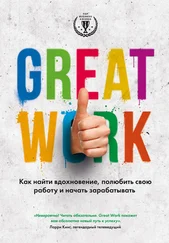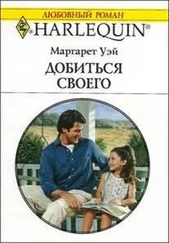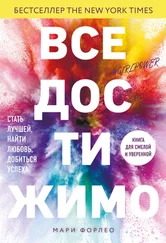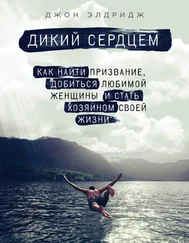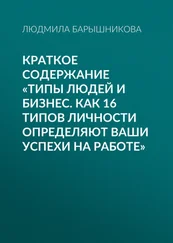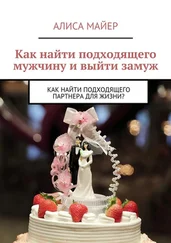Горбачев смотрел на состояние советского общества середины 1980-х годов более критическим взглядом, чем кто-либо из его коллег в руководстве страны. Кроме того, его в большей степени, чем остальных, волновала возможность разрушительной ядерной войны, которая может стать следствием ошибки, аварии или технического сбоя. Как бы то ни было, но в марте 1985 года, когда умер Черненко, Горбачев был единственным реформатором в политбюро и единственным из его членов, кто всерьез собирался покончить с «холодной войной». Члены политбюро создали комиссию, которая должна была выбрать из их числа кандидата на утверждение в должности генерального секретаря КПСС пленумом ЦК партии, то есть фактически выбрать следующего руководителя Советского Союза. Почему же спустя сутки после смерти Черненко этим человеком стал именно Горбачев?
Учитывая состав и консерватизм высшего советского руководства, совершенно очевидно, что его выбрали не потому , что он был реформатором. Он не делился с коллегами по политбюро своими самыми радикальными реформаторскими идеями, и некоторые из них позднее жаловались, что и представления не имели о том, что он способен проводить подобный политический курс [544]. Помимо прочего, в период, когда менее чем за три года умерли три престарелых руководителя страны, он был самым молодым членом политбюро с самым быстрым умом и самым крепким здоровьем. Ежегодные торжественные похороны государственных деятелей ставили Советский Союз в неловкое положение. Кроме того, Горбачев уже стал вторым человеком в высшем советском руководстве. (Его ум и энергичность особенно ценил Юрий Андропов, который существенно расширил сферу ответственности Горбачева за пятнадцать месяцев своего руководства страной.) Горбачев оказался способен захватить инициативу в момент смерти Черненко ранним вечером 10 марта 1985 года. Он созвал и провел заседание политбюро, состоявшееся в 11 часов вечера того же дня, прямо на нем был фактически «предварительно избран» и во второй половине следующего дня уже стал генсеком официально [545].
Особенно важно то, что взгляды Горбачева продолжали эволюционировать и после того, как он стал советским лидером. В 1985 году он считал, что Советскому Союзу нужны реформы и что система, безусловно, может быть реформирована. Летом 1988 года он пришел к выводу о том, что реформы недостаточны и что систему нужно полностью трансформировать. Как он писал позже, его выступление на XIX партконференции, состоявшейся в том же году, было не чем иным, как попыткой совершить «спокойный, плавный переход от одной политической системы к другой» [546]. В той же речи Горбачев говорил, что у каждой страны должна быть свобода выбора собственного образа жизни и социального устройства и что любые попытки навязать их извне, особенно вооруженным путем, происходят из «опасного арсенала прошлых лет» [547]. В этом докладе в июне 1988 года, равно как и в своем выступлении в ООН шестью месяцами позже, Горбачев со всей определенностью заявил о том, что это универсальный, не подразумевающий никаких исключений подход. Это позволило народам Восточной Европы поймать его на слове год спустя. Если бы Горбачев уже в 1985 году понимал, что реформ недостаточно и требуются системные изменения, одной его тогдашней осмотрительности было бы недостаточно — для того чтобы стать генсеком, ему потребовалось бы недюжинное актерское мастерство. То, что политические цели Горбачева (а не только многие из специфических особенностей его поведения) менялись в период его пребывания на самом высоком посту в более чем авторитарной советской системе, имело важнейшее значение [548].
Жесткая иерархия КПСС, сосредоточенные в руках генерального секретаря политические ресурсы (в том числе значительные полномочия по назначению и увольнению) и верховенство его власти по отношению к партийному аппарату, правительственным органам, КГБ и вооруженным силам означали, что он имеет намного больше возможностей производить фундаментальные изменения, чем любой другой политический деятель. Тем не менее ни один советский лидер послесталинской эпохи не обладал правом распоряжаться жизнью и смертью своих коллег, поэтому при наличии достаточно сильной отчужденности последние могли отстранить его от власти — в чем на собственном опыте убедился Никита Хрущев в 1964 году. Ослаблять влияние институтов, с давних пор привыкших к огромным властным полномочиям, было крайне опасно. Поэтому Горбачеву приходилось проявлять настоящее политическое искусство, чтобы использовать возможности, предоставляемые его положением, для проведения радикальных преобразований, противоречивших существующим ведомственным интересам. Как он писал позднее: «Без политического маневра нечего было и думать о том, чтобы отодвинуть могущественную бюрократию» [549]. Один из ближайших соратников Горбачева по реформам первых четырех лет перестройки, Александр Яковлев, выразился еще резче: «Последовательный радикализм в первые годы перестройки погубил бы саму идею всеобъемлющих реформ. Объединенный бунт аппаратов — партийного, государственного, репрессивного и хозяйственного — отбросил бы страну к худшим временам сталинизма». Далее он указывает, что политическая обстановка середины 1980-х полностью отличалась от сложившейся позже [550].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу