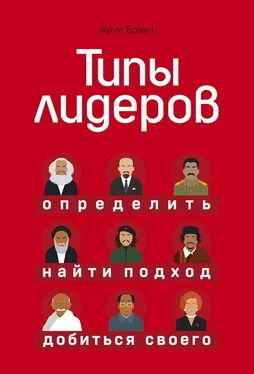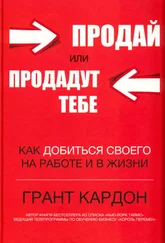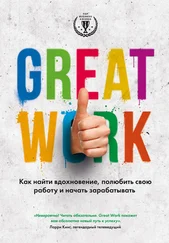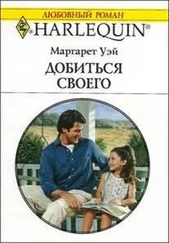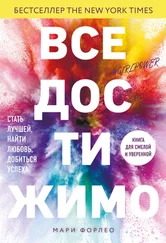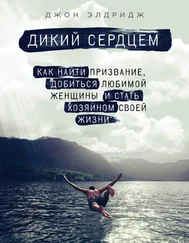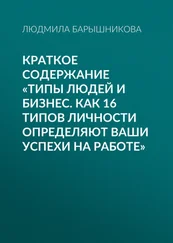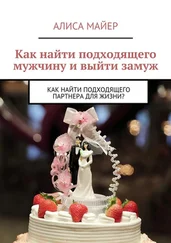В начале 1989 года объединение страны все еще виделось немцам далекой мечтой. Однако радикальные перемены в Москве придали смелости народам Восточной Европы, которые в течение этого года отстранили от власти своих коммунистических правителей. До этого считалось, что любая попытка европейской страны выскользнуть из коммунистического лагеря будет пресечена с использованием советских войск, как это было в Венгрии (1956) и в Чехословакии (1968). Прежде всего это должно было касаться ГДР, где базировался советский военный контингент численностью 350 000 человек. Однако Советская армия не вмешивалась в происходящее ни в октябре и ноябре, когда в восточногерманских городах были массовые демонстрации, ни когда в ночь на 9 ноября внезапно начала рушиться Берлинская стена (в результате неверно истолкованного решения политбюро о смягчении ограничений на выезд за рубеж). На октябрьских манифестациях восточные немцы скандировали: «Мы — народ!». После падения стены это превратилось в «Мы — один народ!» [474].
Стремление народа к объединению было более чем очевидным, однако многие политики как в Германии, так и в других европейских странах считали, что это настолько тонкий вопрос, что подход к его решению может быть исключительно постепенным. Коль думал иначе. Он небезосновательно полагал, что Горбачева могут сместить консервативно настроенные советские коммунисты, встревоженные внутренними и международными последствиями его политики. А в этом случае уникальная возможность объединения будет утрачена. При мощной поддержке американцев Коль не без труда договорился об объединении с Горбачевым, проигнорировал возражения Тэтчер и подтвердил французскому президенту Франсуа Миттерану свою готовность заплатить цену, запрошенную им за согласие на объединение Германии. Эта цена, в частности, предполагала согласие на более тесный союз европейских стран и, самое главное, обязательство отказаться от западногерманской марки в пользу новой единой валюты стран ЕС — евро. В отличие от Бундесбанка Коль совершенно спокойно относился к идее экономического и валютного союза.
Прежде чем приступать к созданию общеевропейской валюты, Колю предстояло решить серьезный вопрос о единой денежной единице Германии. Он предложил обменять восточные германские марки на западные по курсу один к одному, что было, безусловно, крайне выгодно восточной стороне, чья валюта стоила на черном рынке значительно дешевле. Коль полностью проигнорировал рекомендации экспертов, говоривших о том, что восточногерманской экономике потребуется несколько лет для достижения уровня, сопоставимого с уровнем западной, и переход на общую денежную единицу будет иметь смысл только после этого [475]. Но Коля в первую очередь интересовали краткосрочные преимущества, позволяющие проталкивать объединение максимально быстро. Срочное решение всех связанных с объединением вопросов на выгодных для граждан ГДР условиях было важно с внутригерманской точки зрения: затягивание вполне могло обернуться массовыми беспорядками в Восточной Германии. Возможные при таком развитии событий кровопролитие и репрессивные меры стали бы очень серьезной проблемой для Горбачева и его союзников в советском руководстве. Личные отношения, установившиеся между Колем и Горбачевым, сыграли огромную роль. На встрече в феврале 1990 года советский лидер и Коль достигли предварительного соглашения о начале процесса объединения, хотя множество деталей еще предстояло уточнить. Поддержку в этом процессе оказывал президент Джордж Буш-ст., действовавший очень осторожно, чтобы не навредить Горбачеву. При этом он не разделял опасений ряда европейских лидеров в связи с потенциальной мощью объединенной Германии [476].
Чувство удачного исторического момента и дипломатическое мастерство Коля как во внутригерманских делах, так и на международной арене принесли быстрые и благоприятные плоды. Первым из них была победа на выборах в Восточной Германии, состоявшихся в марте 1990 года. «Альянс за Германию» во главе с христианскими демократами получил почти половину голосов избирателей и стал самой успешной партийной коалицией. Летом того же года в течение всего двух месяцев была завершена последняя часть объединительного процесса. Это стало результатом переговоров в формате «два плюс четыре», в которых участвовали представители обеих Германий и четырех держав — победительниц во Второй мировой войне: Советского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Договор об объединении был подписан 31 августа 1990 года. Нет никаких сомнений в том, что объединение так или иначе должно было когда-то произойти, поскольку восточногерманская экономика рушилась, и за один только 1989 год из страны уехало почти 350 000 жителей. Получившая свободу самовыражения общественность ГДР также однозначно высказывалась за объединение. Тем не менее то, что всего несколько лет назад представлялось немыслимым, не прошло бы настолько же гладко, быстро и мирно, если бы кто-то из трио Горбачева, Буша и Коля стал действовать более опрометчиво или менее осторожно. Говорить о том, что без последнего объединение было бы невозможно, — явное преувеличение, но в его отсутствие оно вряд ли было бы настолько же стремительным. По уместному замечанию одного из исследователей межгерманских отношений, именно Коль продавил воссоединение «с энтузиазмом, решимостью и неодолимой (а по мнению некоторых — злополучной) способностью пренебречь опасениями экономического и социального характера ради достижения высшей политической цели» [477]. При всех его позднейших проблемах (не в последнюю очередь — злоключениях евро), роль Коля в воссоединении своей страны, разобщенной на протяжении сорока пяти лет, дает серьезные основания считать его переосмысливающим лидером.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу