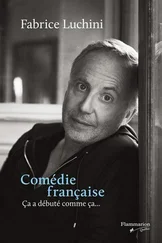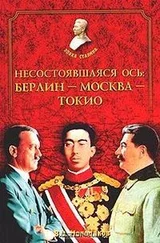Неприятие Моррасом романтизма имело принципиальный характер. «Ронсар и Малерб, Корнэль и Боссюэ в свое время защищали государство, короля, отечество, собственность, семью и религию, – напомнил он в «Будущем интеллигенции». – Романтические литераторы атаковали закон и государство, частную и общественную дисциплину, отечество, семью и собственность; вот чуть ли не единственное условие их успеха – понравиться оппозиции, работать на анархию». Моррас отвергал не только Жорж Санд, Ламартина и Гюго, но милых сердцу друга Готье и Бодлера, видя в их стихах «доказательство того, как богато одаренные таланты не реализовались из-за ложных идей и порочных систем, в чем они и невиновны, и виноваты». Баррес упрекнул Морраса, что тот «формирует мелкие и грубые умы, слишком презирающие Готье и Бодлера», заметив: «По-моему, вы рискуете отдать нашим соперникам слишком много прекрасного, чего не хотелось бы лишаться». «Продолжающееся почитание их, – ответил Моррас, осуждавший «смесь анархических восклицаний и темных криптограмм», – грозит отравить следующие поколения, что они уже начали. Посмотрите на отравленных и потерпевших крушение – на Верлена, Малларме, Рембо, Лафорга! Вы верите в вечность этих извращенных прелестей?» (ВМС, 495–497). Двумя десятилетиями ранее Пенон уговаривал его: «Будьте Моррасом, а не Барресом и, тем более, не Малларме» (СМР, 308).
Что это? Крайний догматизм, отсутствие вкуса или обида непризнанного поэта? В рецензии на собрание стихов Морраса «Внутренняя музыка» Георгий Адамович назвал его любовь к музам «безнадежной и неразделенной»: «Общие его представления о поэзии величественны. Но лишь только дело дойдет до их конкретного применения, Моррас делается жертвой своего фанатизма и прямолинейности. Он как бы забывает, что если в искусстве и нужны правила, то только для того, чтобы могли существовать исключения. Есть в искусстве один непререкаемый закон – “победителей не судят”. Во всех оценках Морраса чувствуется, что он руководится теоретическими предпосылками, но что он глух и слеп к результатам. Еще очевиднее это в его собственных стихах» [88] Адамович Г. Литературные беседы. Кн. 1. СПб., 1998. С. 196–197.
.
Критик Даниэль Галеви, которому Моррас адресовал предисловие к «Внутренней музыке», придерживался иного мнения: «Поэзия связана с самыми волнующими моментами вашей жизни, – писал он автору. – Счастлив и горд, что вы мне это доверили» (LCM, 389). Сказанное можно списать на издержки жанра, но искренним поклонником поэзии Морраса был такой далекий от него – и политически, и литературно – человек, как Гийом Аполлинер.
В отличие от теоретика Морраса, Баррес считал себя прежде всего художником и политиком, т. е. практиком. В 1908 г. Массис в эссе «Мысль Мориса Барреса» назвал его философию «философией действия», отметив ее «антиинтеллектуалистский» характер (МРВ, 14, 44). Восходя к высказываниям самого Барреса, это звучало комплиментом. В нашумевшей книге «Сегодняшняя молодежь» (1913) Массис и Альфред де Тард объявили одной из главных черт нового «поколения французского возрождения» именно антиинтеллектуализм, вкладывая в это понятие неприятие чрезмерного рационализма, сциентизма и скептицизма старших (JGA, 19).
Однако в эссе «Морис Баррес, или Поколение относительного» (1923) Массис критиковал мэтра за «неверие в ум» и «презрение» к нему – имея в виду ум философствующий, «независимый разум, существующий в каждом из нас, который позволяет нам приблизиться к истине» (HMJ, 196–197). «В основе учений Барреса и Морраса лежит агностицизм, – отметил он, – но Моррас идет дальше, поскольку никогда не обесценивает разум, а его стройная система неизменно отдает предпочтение уму. <���…> Система Барреса, напротив, вся проникнута субъективными противоречиями» (HMJ, 196–197).
«Характер человека оценивается по его восприятию смерти, – считал Леон Доде. – Качество писателя оценивается по тому, как он говорит о смерти – не в том, что касается его самого, – и о мертвых. Она есть великая мера и литературы, и души, поскольку литература – не что иное, как самое непосредственное и самое полное выражение души» (LDE, 33). Темы смерти и умирания – людей, городов, культур – занимают важное место в мировосприятии и эстетике Барреса, придавая им пессимистический, декадентский колорит. «Культ мертвых – порождение индивидуалистического сознания» (MPB, 48), – утверждал Массис, противопоставив Барреса оптимисту и коллективисту Моррасу: «У первого приятие смерти как умиротворения; у второго мужественное и сознательное сопротивление всему, что грозит сущему и покушается на законы природы и жизни» (HMJ, 214).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
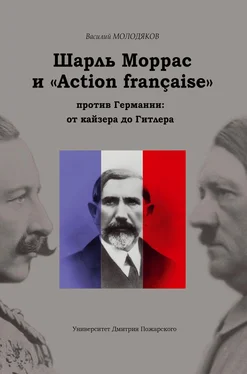

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)