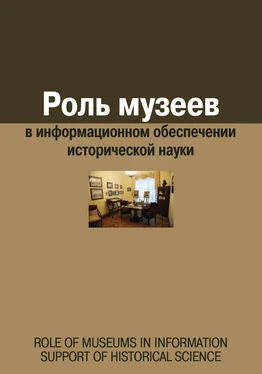Записи И. Е. Забелина в дневнике раннего периода, 1850-х г., свидетельствуют о сложившихся уже тогда твердых взглядах ученого на предмет и задачи археологии: «Задача археологии – воссоздать минувшую действительность во всех подробностях народного быта. Но ведь такая же задача и истории; где границы между тою и другою наукою. Границами, кажется, можно поставить следующее: история занимается народом, как отдельною собирательною личностью, моральною. Для истории народ – лицо – человек. Предмет археологии – индивидуум – лицо отдельное – человек. Она стремится уяснить себе, как это лицо жило, думало, желало. Задача ее – как жил отдельный человек из народа, известная личность. А задача истории – как жил и развивался народ . История рассматривает отдельную жизнь человека в данную эпоху только для пояснения общего народного характера. История – общее, археология – частное. Там законы общей жизни. Здесь законы, условия частной жизни» [Забелин, 2001. С. 226]. Итогом этих рассуждений историка стали два тома его неоднозначно воспринятой либеральным российским обществом книги «История русской жизни», вышедшей в свет во второй половине 1870-х гг. Примерно то же самое с упором на этические моменты археологического исследования он произнес, выступая на Археологическом съезде в Киеве [Забелин, 1878. С. 1–18]. Изучение археологией индивидуального (бесчисленных артефактов прошлого в их типологическом разнообразии), по И. Е. Забелину, есть безусловное требование к продолжению изучения историей родового начала в народе (т. е. открытие и толкование путей воссоздания единичного, индивидуального в родовом творчестве, в остатках родовой деятельности – в совокупности артефактов или, говоря современным языком, в комплексе материальных остатков археологической культуры). Одно невозможно без другого, родовое выводится из личного и определяется им, и наоборот, поэтому нужно исследовать оба начала в комплексе, в тесной взаимосвязи.
О неординарности И. Е. Забелина как писателя-историка свидетельствуют и такие факты, приводимые издателем его дневников Н. А. Каргополовой: в 1860-е гг., «задумывая учебник по русской истории, Забелин ставил себе цель изобразить Русь как живую личность: ее рождение, воспитание и т. д. История, география, верования, политика, настроения, конкретные жизненные ситуации, рассматриваемые в записях, приобретают в совокупности образность. Нет России IX, ХVII, XIX столетий, есть живое образное пространство со своей исторической судьбой: „ Нельзя главы делать по поколениям “… „ Народ как один человек имеет ум, склад мысли… народ не есть мужик или барин, а это есть дух, особый нрав, обычай, особая сила, которая все переделывает по-своему “. Особенности развития, условия формирования в прошлом являются законами современной государственной, бытовой, нравственной, религиозной жизни, влияют на будущее: „ Начало во мраке, а свойства, суть сохраняются по сей день “» [Каргополова, 2001. С. 21] (речь идет об упомянутой выше «Истории русской жизни» И. Е. Забелина).
Н. Ф. Федоров также упирал на особое отношение исследователя к родственному вниманию (определение из дневников М. М. Пришвина, прекрасно знавшего работы философа) по отношению к останкам прошлого, без которых невозможно «братское» воссоединение живых с предками. Коренное различие во взглядах Забелина и Федорова кроется в их понимании ведущей движущей силы Истории. Забелин полагал, что «общество и государство суть такие же организмы, как и каждая живущая особь, а потому они и не могут жить иначе, как тем же законом каждого организма, т. е. поедая все частное во имя своего общего. В борьбе общего с частным и заключается вся история человечества» [Забелин, 2001. С. 170]. У Федорова личное в Истории довлеет над родовым, у Забелина – родовое над личным. Тем не менее очевидно, что оба они мыслили в рамках христианской этики, в отличие от К. М. Бэра.
Основной вывод из приведенных сопоставлений видится в том, что в России середины – второй половины XIX в. идеи, в чем-то схожие с мыслями Н. Ф. Федорова относительно роли и места археологии в обществе и в системе наук, уже бродили в умах великих русских ученых, но отчетливо и комплексно они были сформулированы им самим без заимствования у кого бы то ни было. Парадигма и пути развития археологической науки были определены мыслителем верно; этой парадигмой направляется развитие науки и в наше время (с постоянным включением в ее вспомогательный аппарат новейших достижений других наук), ею оно будет определяться, вероятно, и в « грядущие времена ». Сам философ особо упирал на то, что его волнует не современное ему состояние научной мысли, а пути ее совершенствования. В работе «Будущее, или Что дóлжно быть» мыслитель писал, что крайне важен « … вопрос о соединении естественных наук с историческими, хотя ‹о› соединении еще неполном – в полном „естественное“, т. е. рождающееся, превращается в „историческое“, т. е. воссозидаемое, – ибо все человеческое знание может быть признано естественною наукою, наукою о природе абстрактно, а конкретно – наукою о небе, астрономиею, которая и на землю смотрит, как на небесное тело, и на человека, как на небожителя ‹…› Но как небожительство человека, так и скотское его происхождение есть только предположение, мысль… например, дарвинизм, который из всей истории человечества делает страничку зоологии, сам есть лишь мимолетная мысль в Истории знания человечества, мысль не всего притом человечества, а лишь немногих ученых. Таким образом, вся наука с субъективной стороны делается Историею, но историею только мысли человеческой, знания, еще не подтвержденного общим делом, воссозданием, а с объективной, но не действительно, мнимо объективной, Астрономиею… Истинное же единство для настоящего времени есть не субъективное и не объективное, а проективное» [Федоров, 1995–2000. Т. 3. С. 123].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу