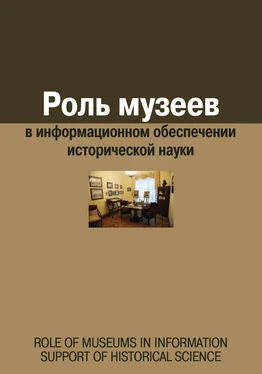Вопрос о прародине ариев – вопрос большей частью археологический вплоть до сего времени, и концентрируется он именно на археологическом изучении территории бывшего Туркестана и прилегающих к нему областей России; не надо при этом смешивать позицию философа с построениями тех достаточно образованных членов Туркестанского кружка любителей археологии (к примеру, В. М. Флоринского), которые искали там пращуров славян ( см.: [Смирнов, 2011. С. 328]). Н. Ф. Федоров призывал всех работать вместе для достижения одной цели, а у членов кружка или у тех же германских, английских археологов, наводнивших Туркестан в конце XIX в., были цели и совсем иного рода – обосновать притязания своих империй на эти земли как на свои исконные территории.
Археология и история в системе учения Н. Ф. Федорова, таким образом, объемлют историю не только русского народа, но и всего индоевропейского племени, а через него и историю человечества вообще; он видит, что наука еще слишком слаба и неразвита и действует в отрыве от естественных наук, которые помогали бы археологии привлечь к делу воскрешения предков знания естественных законов природы («силы рождающей и созидающей»), законов, которые бы облегчали для археологии задачу искать и применять новые, до сих пор неведомые, но непременно существующие практические методики (те, которые непременно имманентно присутствуют в ней как в « проекте »).
В этом смысле комплекс проективных идей Н. Ф. Федорова, несмотря на весь «реализм» и практичность его, близок к утопии как «метажанру» русской философии и литературы (по определению Н. В. Ковтун: [Ковтун, 2009. С. 25]), но не полностью покрывается этим определением – границы между самими этими разновидностями жанра бывают порой достаточно условны. Как определить, к примеру, жанровость произведений философа и писателя В. Ф. Одоевского, хотя книги его и издаются под грифом «художественная литература», – философско-утопическая литература или философия, облеченная в оболочку литературного сюжета? И у Н. Ф. Федорова есть попытки творить в художественно-утопическом ключе (к примеру, его статья «Воронежский музей в 1998 году»), и у И. Е. Забелина были мысли написать роман в духе, как бы мы сказали теперь, «альтернативной истории» [ см.: Забелин, 2001. С. 79. Запись от 6 апреля 1865 г.].
А идея великого русского натуралиста В. И. Вернадского о грядущей автотрофности человека [Вернадский, 1988], о появлении в будущем замкнутого социально-производственного цикла человечества, не оставляющего после себя никаких материальных следов (т. е. предмета археологии), – разве не утопия? Сочетается ли эта идея с воззрениями Н. Ф. Федорова о регуляции стихийных сил природы? Очевидно, да: она является предельным выражением логики философа, ее завершением [Семенова, 2000. С. 86, 448]. Нет труда физического, следовательно – нет и отходов жизнедеятельности человека. Человек, следуя этой логике, превращается в плотское, но «прозрачное» существо духовного плана. Индустрия, составляющая костяк современной цивилизации, отпадает и исчезает как бесполезная обуза. Все произведения культуры тоже созидаются только в эфире (не угадали: не в электронном формате с его материальными носителями). Это – не конец истории, но конечный предел науки археологии, у которой исчезнет предмет ее исследования. Что за этой чертой – археология будущего или ее смерть? На эти, чисто философские, вопросы уже обратила внимание современная литературная утопия ( см., к примеру, роман М. Попова «Плерома» [Попов, 2006], где одной из главных движущих сил сюжета является осуществление автотрофности в практике ближайшего будущего человечества. И сама наука должна задумываться над подобными вопросами.
Вопрос о неразвитости, отставании археологии от общего прогресса остальных наук (особенно естественных) и в настоящее время является не только проблемой внешней, свидетельствующей о сильнейшей зависимости ее от развития окружающего общества. Есть еще проблемы внутреннего порядка, определяемые спецификой любого научного процесса (неравномерность разработки отдельных тем, региональных исследований, методологических направлений, цикличность развития, возвратно-поступательный характер в эволюции идей), когда та или иная проблематика, решаемая на одном этапе, на следующем этапе развития видится совсем по-иному, отодвигаясь и расширяясь подобно горизонту перед восходящим на вершину первопроходцем. Все эти трудности усугубляются и отсутствием централизации, единых программ исследований на отдельно взятой территории той или иной археологической культуры, рассеченной современными границами государств и регионов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу