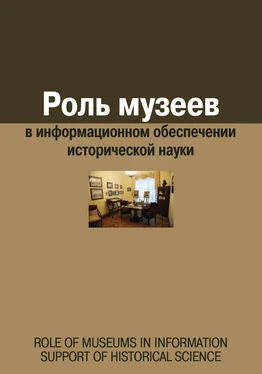В важной работе историософского плана «Золото и прах» (1900) мыслитель указывал: «Золото объясняет, почему История, как факт, есть взаимное истребление. Прах же отцов дает смысл и цель Истории как проекту воскрешения… Археология или История на Земле, как кладбище, распространяется, производя раскопки по всему миру, хотя и не сделалась еще повсеместною, не познала себя наукою сынов, изучающею останки отцов… Археология еще не соединилась с естествознанием, с познанием силы рождающей и разрушающей» [Федоров, 1995–2000. Т. 3. С. 373]. В работе того же периода «Об истинной религиозности», посвященной разбору поэмы «Цена жизни» его ученика и последователя В. А. Кожевникова, мыслитель пояснял: « … И сам человек представляет „весы“, когда в одной руке держит горстку праха, а в другой – золото, и если бросит прах на могилу умершего и, взявши золото, удалится от могилы, то будет блудным сыном, „человеком“ или гражданином нашего времени; или же, оставив золото, сделает прах предметом исследования или познания того, чем он был, доказывая восстановлением того, чем он был, истину восстановления» [Федоров, 1995–2000. Т. 3. С. 550].
Итак, цель археологии, истории и человека в ней, по мысли Н. Ф. Федорова, – отклониться от злата , от стремления к бесконечному потребительству, наращиванию материального благополучия (т. е. от исчерпавшей себя современной позитивистской парадигмы развития человечества) и сохранить прах предков (т. е. весь массив духовно-материальной культуры прошлого) для его надлежащего исследования (причем исследования не мертвого, « ученого », а живого, « жизнесловного », комплексного по своей сути, учитывающего все достижения современной научной мысли). Это моральный императив его определения науки. «Мы потому и называем Археологию величайшею и святейшею наукой, что без познания памятников и останков умерших, – познания не мысленного только, – невозможно объединение, братство живущих», – писал он в статье «О значении обыденных церквей вообще и в наше время (время созыва конференции мира) в особенности» [Федоров, 1995–2000. Т. 3. С. 5–46] (статья-обращение была по просьбе Н. Ф. Федорова опубликована от имени его хорошего знакомого, археолога С. А. Белокурова, как запрос к предстоявшему Археологическому съезду в Риге [Белокуров, 1896. С. 34–35]).
Из этого понимания археологии проистекает и определение Н. Ф. Федоровым важнейшей роли такой формы организации современной ему науки, как Всероссийские археологические съезды (каковая организация должна быть, по его мнению, многоуровневой: от низовых областных и губернских съездов идти к общегосударственным). Роль съездов видится им прежде всего в пробуждении и подъеме интереса провинциальной и местной, уездной, общественности к прошлому своего края. Поэтому он ратует за всяческое расширение географии Археологических съездов, которые в тот период стали охватывать и национальные окраины Российской империи. Правда, логика организаторов съездов и Н. Ф. Федорова в этом были принципиально несхожими. Уваровы во главе Московского археологического общества преследовали, кроме сугубо научных, еще и государственно-политические цели – цементации, консолидации научной общественности империи, преодоления зарождавшегося национального сепаратизма, распространения имперского научно-культурного стандарта и на нерусские губернии.
За внешней риторикой статей философа, в которых содержатся и его идеи относительно географии съездов, зачастую прячутся чисто научные цели. Так, в работах 1899–1900 гг. («О месте будущего Археологического съезда», «Где быть научным съездам в Туркестане?» и др.) он задает Предварительному комитету будущего съезда вопрос: «где искать прародину ариев и как организовать комплексную экспедицию на Памир?» (Н. А. Янчук по его просьбе представил X Археологическому съезду в Риге два запроса: о прародине ариев и об учреждении комплексной международной научной экспедиции по изучению Памира [Федоров, 1995–2000. Т. 5. С. 365]; мыслитель просил В. А. Кожевникова познакомить Янчука со своей статьей «О месте будущего археологического съезда» (подробнее см. об этом: [Ершов, 2012. С. 114–116]). Н. Ф. Федоров предложил для ускорения решения этих вопросов собрать съезд в Самарканде: «Значение Памира велико и в настоящем, а потому и желательно, чтобы Самарканд, стоящий у подножия Памира, стал местом не археологического лишь съезда, но и съезда естествоиспытателей и врачей. Если исторически возможно еще сомнение относительно Памира как могилы (по народным сказаниям) или колыбели (как выражаются желающие забыть о смерти) предка, праотца, то географически и особенно этнографически Памир есть несомненно центр, кровля мира ‹…›. Это исследование тем особенно важно, что оно требует международных научных экспедиций, а вместе и соединения усилий историко-археологических и антропо-натуралистических; такая же совместная работа будет способствовать замене местного, народного патриотизма – всеплеменным и заставит как натуралистов, так и археологов признать необходимость всестороннего изучения вопроса – лингвистического, археологического и антропологического…» [Федоров, 1995–2000. Т. 4. C. 207–210].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу