Ничего особенно героического во всем этом нет. Я никак не пострадал — меня не выгоняли с работы, не вызывали в КГБ. А неприятности с цензурой бывали у всех приличных людей. Но все-таки, когда оригиналы протоколов, а затем и катынские документы наконец нашлись в президентском архиве и были опубликованы (их никто и не терял, разумеется), у меня было ощущение свалившегося с плеч груза — дело сделано, повернуть историю вспять невозможно. Оказалось, еще как возможно. Всего только и требуется спрятать протоколы в какую-нибудь «особую папку». И через полвека историки и журналисты нового поколения начнут раскопки заново.
Иногда мне все это кажется каким-то наваждением — не то, что было со мной и Россией тогда, а то, что происходит с Россией сегодня без меня. Я смотрю теперь на нее издалека, из-за океана, не улавливаю многих деталей, но ведь со стороны виднее. Происходящее в России представляется мне экранизацией романа жанра «альтернативная история», чудится, будто к власти в Москве благодаря какой-то дикой причуде истории пришли постмодернисты и устроили инсталляцию, перформанс размером со страну. Будто Пелевиным написаны фантасмагорические визиты на бронепоезде северокорейского вампира Ким Чен Ира, абсурдные «съезды гражданского общества» под патронатом верховной власти и шпиономанские судилища в духе Льюиса Кэрролла («— Нет! — сказала Королева. — Пусть выносят приговор! А виновен он или нет — потом разберемся!»).
Я публикую свои маргиналии и ламентации в Интернете, а потом читаю в блогах, что мне, предателю и клеветнику, давно пора на Колыму. Наивные люди. Они думают, что лояльность режиму спасет их от Колымы. Как говорит нам история родной державы, лояльные на Колыме тоже нужны — ведь они работают не за страх, а за совесть.
Только теперь я вижу скрытый смысл названия этой книги. Я побывал в лабиринте, но до Минотавра не добрался. Наш Минотавр, наше общее чудовище — тяжкое наследие сталинизма. Еще недавно я все твердил согражданам, как рыцарь Ланцелот из пьесы Евгения Шварца: «Дракон вывихнул вашу душу, отравил кровь и затуманил зрение. Но мы всё это исправим».
Должность вопиющего в пустыне утомляет. Но никакой другой у меня нет.
Август 2006, Арлингтон, Вирджиния
Глава 7. ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
Михаил Сергеевич Горбачев искренне верит, что он дал свободу народам Советского Союза. На его месте я бы, наверно, тоже верил. Но на своем верить этому не могу, потому что очень хорошо помню, как было на самом деле.
«О, не верьте, не верьте, почтенные иноземцы, что мы боимся благодетельной гласности, только что завели — и испугались ее, и прячемся от нее. Ради Бога, пуще всего не верьте «Отечественным запискам», которые смешивают гласность с литературой скандалов», — писал, пародируя кого-то, Достоевский в 1861 году, когда Россия после лютой стужи николаевского царствования пошла по пути великих реформ. (В английских толковых словарях эта исторически первая дефиниция гласности отсутствует вовсе — glasnost ассоциируется исключительно с горбачевской перестройкой.)
Именно это и произошло с горбачевской политикой гласности: едва приоткрыв клапан, генеральный секретарь ЦК КПСС, который очень хотел нравиться иноземцам, испугался последствий и то и дело норовил закрыть его. Попытки восстановить контроль над прессой маскировались разными предлогами — например, борьбой с порнографией. Он провел закон о защите чести и достоинства президента, тем самым показав, что президент «равнее» прочих граждан. (Закон этот отнюдь не остался мертвой буквой — по нему привлекались к ответственности лидеры оппозиции, а арбатских торговцев, торговавших матрешками, изображающими Горбачева, штрафовали, конфискуя товар.)
Действительно при Горбачеве, с превеликими трудами, был принят закон о печати — в июне 1990 года. Но уже в январе 1991 го застрельщик перестройки попытался отменить его «в связи с необъективным освещением событий в Литве». Речь идет о войсковой операции по захвату телецентра и других ключевых объектов в Вильнюсе — в город вошли танки и бронетранспортеры, московский спецназ штурмом взял телецентр, при этом погибли защищавшие здание в качестве живого щита безоружные граждане. После событий в Вильнюсе вся либеральная пресса встала в оппозицию режиму и впервые, черным по белому, назвала его преступным. Горбачева это шокировало. Он просто не представлял себе, что журналисты могут осмелеть до такой степени, у него это не укладывалось в голове. На заседании Верховного Совета генсек предложил приостановить действие закона о печати, но столкнулся с такой обструкцией зала, что вынужден был отступить. Эта нерешительность и стала смертным приговором режиму, который оказался слаб в коленках. Путч в августе 1991 го был агонией советской империи.
Читать дальше
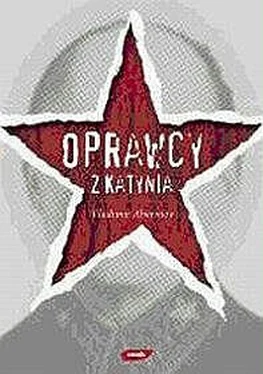


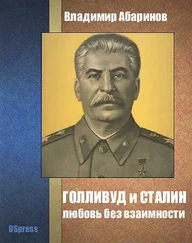



![Владимир Чуринов - Лабиринт верности [СИ]](/books/395124/vladimir-churinov-labirint-vernosti-si-thumb.webp)

