Потом наступил 1981 год, и дикторы советского телевидения строгими голосами вещали про «перерывы в работе» в Польше. Назвать забастовки «Солидарности» забастовками для кремлевского агитпропа было бы страшной крамолой: бастуют при капитализме, а при социализме бастовать не из-за чего. В моем кругу в те дни родилась фраза «Вся надежда на Польшу». И Польша надежду оправдала. Когда выяснилось, что Москва не пошлет войска в Польшу, мы поняли: польский бастион устоял, а советская империя обречена. Она скончалась естественной смертью, распалась, потому что пришел ей срок, потому что ослабли державшие ее скрепы страха.
При Горбачеве поначалу никаких кардинальных перемен не ощущалось — слегка открутил гайки, но не слишком. В феврале 1987 г. в лютый мороз на зов перестройки в Москву съехался весь мировой бомонд от Грэма Грина до Йоко Оно. То был какой-то форум в защиту мира. Я ходил по отелю «Космос» и чувствовал себя на балу у Воланда. На этом форуме впервые появился на публике возвращенный из ссылки Андрей Сахаров. Но специфика того момента заключалась в том, что появиться Сахарову уже было можно, а написать об этом в «Литературной газете», где я тогда работал, или показать его по советскому телевидению — еще нельзя.
В руководстве Союза кинематографистов СССР в то время оказались либералы, постоянно испытывавшие режим на прочность — именно там получили крышу над головой и легальную трибуну люди, составившие впоследствии первую команду Ельцина. На очередной кинофестиваль в Москву Союз пригласил Анджея Вайду и Адама Михника, но Михнику не дали визу, и тогда Вайда, который должен был возглавить жюри, сказал, что он тоже не поедет. В итоге приехали оба.
Я привез Вайду в редакцию, в комнату набилось много народу, это было первое появление Вайды в Москве после «Человека из мрамора». Среди прочих там сидел человек, написавший гнуснейший пасквиль на фильм «Дантон», но он задавал вопросы как ни в чем не бывало и, по всей видимости, ничего похожего на комплекс вины не ощущал и даже, наверно, искренне не понял бы, о чем речь, если бы его спросили, не стыдно ли ему. Во всяком случае многие из тех, кому тогда задавали подобные вопросы, реагировали именно так.
«Молчащих нельзя лишить слова», — сказал Станислав Ежи Лец. Пора было говорить. Я работал в могучей, авторитетнейшей «Литературной газете». В то время журналист с таким удостоверением почти не знал преград. Чиновникам и обыкновенным гражданам и в голову не могло прийти, что он действует не по заданию редакции, а по собственному почину. Я взялся за проблему секретных протоколов к пакту Молотова—Риббентропа. Моим старшим товарищем и наставником в этой работе был ныне покойный блистательный историк Натан Эйдельман. Нет, я не обнаружил оригиналы протоколов — даже во времена расцвета горбачевской гласности к самым секретным архивам никого извне не подпускали. Но я нашел косвенные подтверждения их существования в документах Нюрнбергского процесса. Эйдельман пригласил меня участвовать в дискуссии в Центральном доме литераторов. Уже наутро об этом донесли моему газетному начальству, которое велело мне впредь не участвовать в «полуподпольных сборищах».
То было странное время. Еще действовала цензура, но она уже не знала, что можно, а чего нельзя. Когда в августе 1989 г. в связи с 50 летием начала II Мировой войны развернулась острая дискуссия о советско-германских протоколах и стало ясно, что чаша весов клонится к признанию их подлинности, мой редактор принял запоздалое решение печатать мой текст на эту тему, который провалялся у него на столе полгода. Но к тому времени я уже отдал статью в московский журнал. Цензура вынула ее из сверстанного номера, и номер полетел к черту, но я переслал статью в Таллин, где она и была опубликована. А месяц спустя вышла и в Москве.
В архиве, где я искал документы о Катыни, полагалось все выписки делать в специальную тетрадь с пронумерованными страницами, чтобы нельзя было вырвать и унести часть записей. После занятий тетрадь надлежало сдавать на хранение работникам архива, которые внимательно просматривали записи, выясняя, не содержат ли они государственную тайну. Лишь после такого просмотра тетрадь можно было забрать домой. Но мне вся эта морока сильно осложняла работу, к тому же я был почти уверен, что катынское дело по-прежнему составляет государственную тайну (узнать это было неоткуда, ведь перечень гостайн тоже был гостайной). Поэтому я царапал свои заметки на клочках бумаги, а клочки совал в карман. Все мое катынское досье состояло из кучи бумажных обрывков, в которых я потом с трудом мог разобраться.
Читать дальше
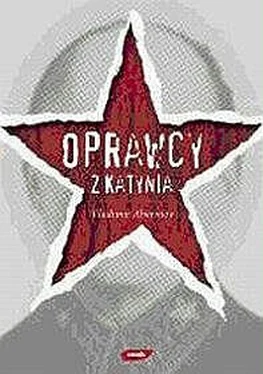


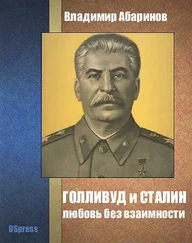



![Владимир Чуринов - Лабиринт верности [СИ]](/books/395124/vladimir-churinov-labirint-vernosti-si-thumb.webp)

