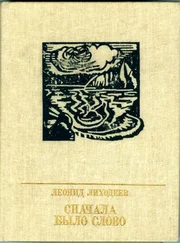В назначенный час Ольга Александровна встречает меня и палец к губам прижимает: "Тсс! Женя раздражен чем-то. Что-то у него не ладилось на репетиции - их посетил какой-то начальник, который в музыке не смыслит, а Женя его выгнал. Пришел домой, сорвал простыни с кровати, швырнул их на пол, лег на голый матрац. До сих пор не вставал". Слышу, за дверью шевеленье. Выходит мрачный Мравинский. Поздоровался со мной нехотя, однако спросил: "Где вам будет удобнее рисовать?" Тотчас определяю место, начинаю искать ракурс... Но Евгений Александрович, садясь на стул, заявляет: "Я так буду сидеть. Сколько времени вам нужно?" Отвечаю: "Как пойдет..." А он: "Два часа хватит?" Я промолчала и укрепила лист на планшете.
Рисовать начала сразу. Два часа мы работали в полной тишине. Я не привыкла к такому - обычно с теми, кто мне позировал, всегда разговаривала, человек менял даже позу: мне важны ведь не только линии, не только внешний облик, но и внутреннее состояние. С Мравинским получилось по-другому. Он промолчал ровно два часа, потом сказал: "Все. У меня больше сегодня нет времени. Извините. Когда вам угодно в следующий раз?" - "Завтра",- робко говорю я. "Хорошо. Завтра в это же время". И он вышел из комнаты. Тут же появилась Ольга Александровна, попросила меня посидеть немного и убежала. В ее отсутствие я нанесла кое-какие штрихи, доработала то, что можно было сделать без Мравинского. Ольга Александровна вернулась со словами: "Нервничает. Есть не стал, пошел на репетицию и строго наказал мне, чтобы я в филармонию сегодня не приходила". Она взглянула на портрет и воскликнула: "Ой, простите, Елизавета Петровна! Я понимаю, что дуракам полработы не показывают, но мне очень нравится!"
На следующий день Евгений Александрович меня уже ждал сам. Он был в хорошем расположении духа. Спросил: "На чем мы остановились?" Я пошутила цитатой из "Бани" Маяковского: "На "итак, товарищи",- и развернула набросок. Мравинский не взглянул, а только сказал: "Не надо. Дуракам полработы не показывают". Сел в ту же позу, что и накануне. И опять - два часа в полном молчании.
На этом сеансы закончились, портрет я доработала сама. Принесла его Мравинским. Евгений Александрович посмотрел очень внимательно и произнес: "Похоже". Я была ошарашена - мне казалось, что рисунок очень удачен и заслуживает более высокой оценки. Я сказала: "Хочу подарить его вам". "Спасибо". И Мравинский поцеловал мне руку. Ольга Александровна вся светилась, говорила комплименты.
Прошло десять лет. У меня готовилась персональная выставка в ЛОСХе, где я решила среди других работ представить и портрет Мравинского. Позвонила ему. Он притворился, что очень рад звонку, а на мою просьбу откликнулся сразу: "Пожалуйста, приезжайте". Дома Евгений Александрович был один. В комнате на столе лежала партитура, над которой он работал, а рядом - трубочка, которую Мравинский мне протянул. Я быстро распрощалась, а когда дома развернула трубочку, она тотчас свернулась обратно: моя работа, видимо, так десять лет и пролежала свернутой.
На выставке портрет пользовался успехом. Мравинскому я возвращать его не стала. Мы много раз потом встречались в разных ситуациях, но про рисунок мне Евгений Александрович ни разу не напомнил.
Вот такую историю рассказала мне старая художница и подарила фотографию с того самого портрета. По-моему, он замечательный!
Сам я с Мравинским близко знаком не был, однако имя его в нашем доме звучало очень часто.
Для меня Мравинский - бог, кумир, воплощение дирижера-идеала. Для меня он такой же символ Ленинграда, как Адмиралтейская игла, как Большой зал Ленинградской филармонии. Не могу без волнения слушать ЕГО музыку: строгость и стройность, глубина, которые были присущи великому дирижеру в каждом исполняемом произведении - будь то симфония Моцарта или Шостаковича, увертюра Вебера или Глинки,- производят то же художественное впечатление, что и Арка Главного штаба, что и Казанский собор: ты встречаешься с Совершенством!
О том, как работал Мравинский с оркестром должны написать артисты, которых он воспитал. О том, как работал Мравинский до выхода к оркестру, рассказать практически невозможно: надо рассказывать о каждой минуте жизни дирижера.
...Конец 50-х годов. Евгений Александрович попадает на операционный стол - ему делают резекцию желудка. Мой отец лежит в палате напротив и, когда Мравинский уже поправляется, заходит к нему. На столике рядом с кроватью - партитура.
- Как вы себя чувствуете, Евгений Александрович?
Читать дальше