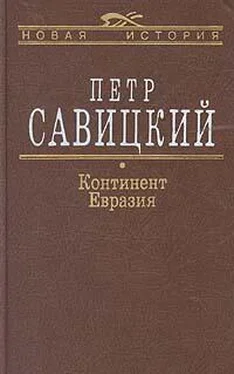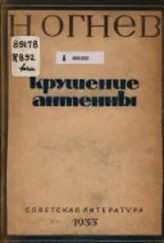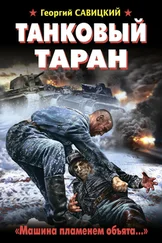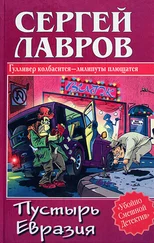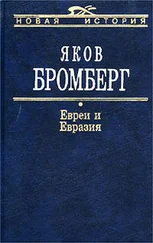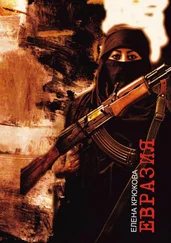Впрочем, русские частицы "до" и "за" не равнозначны, например, латинским cis и trans, в смысле: по ею и по ту сторону. Обозначения Доуральской и Зауральской России, в указанном их приурочении, можно сохранить, ведя счет и от стран к востоку от Урала; и в этом случае можно говорить, что часть России лежит еще до Урала, в смысле "по ту сторону", часть — уже за Уралом, в значении "по ею сторону".
Термины "материк" и "континент" научному уточнению не подвергаем и прилагаем равно к "географическому миру" и "части света"…
Монгольская держава зародилась в областях, лежащих на стыке лесной, степной и пустынной зон: в Забайкалье и нынешней "внешней Монголии". Евразию в виде России русский собирательный центр объединил, действуя из лесу.
Нам известны случаи применения к почвам (в русской терминологии) термина "местообитание". Это словоупотребление кажется нам еще менее удачным, чем то, которое говорит о "местообитании" растений: согласно обозначениям, принятым в современном почвоведении, почвы не "обитают", но "формуются"…
Здесь и в дальнейшем пользуемся выражениями В. В.Докучаева и Г. Ф. Морозова. Ответственность за применение их мыслей к понятию "месторазвития" остается на авторе этих строк.
Геология — учение о горных породах, слагающих земной лик. Гидрологические особенности — особенности в распределении и циркуляции вод, т. е. так называемого "водного режима". Морфология — учение о формах; в частности, геоморфология — учение о формах поверхности.
Всячески хотим подчеркнуть, что понятие месторазвития устанавливает "связи явлений" и что вопрос о направлении и природе причинных зависимостей с этой точки зрения не является существенным. Понятие "месторазвития" останется в силе, будем ли мы считать, что географическая обстановка односторонне влияет на социально-историческую среду или, наоборот, что эта последняя односторонне создает внешнюю обстановку: или же будем признавать наличие процессов обоих родов. Мы считаем, что научной является только эта последняя концепция. По нашему мнению, процесс, связывающий социально-историческую среду с географической обстановкой, есть процесс двусторонний. Убеждение это мы выразили в тексте. Однако в принципе основное содержание понятия "месторазвитие" не должно зависеть и не зависит от этого убеждения. Активное отношение социально-исторической среды к внешней обстановке выражают в форме утверждения, что среда "выбирает" для себя обстановку; философы истории и этнологи нередко говорят о "выборе" определенным народом среды местожительства. Так, например, Н. Я. Марр (Племенной состав населения Кавказа. Петроград, 1920) упоминает "о выборе на Кавказе местожительства в приморской области одной группой иммигрировавших сюда яфетических народов". Также и эта концепция умещается в рамках и согласуема с концепцией "месторазвития". Если социально-историческая среда и "выбирает" для себя внешнюю обстановку, вступив в нее, вместе с ней она составляет "географический индивидуум". Категория месторазвития, повторяем, нейтральна в отношении к возможным метафизически-научным разногласиям о том, что логически и причинно-следственно обладает первенством: социально-историческая среда или географическая обстановка… И в том и в другом случае социально-историческая среда и ее территория "должны, слиться для нас в единое целое, в географический индивидуум или ландшафт". И в том и в другом случае необходимо умение сразу смотреть на социально-историческую среду и на занятую ею территорию….
Характеристику России как географически своеобразного мира можно и нужно сомкнуть с указаниями на прошлые и современные своеобразия русской жизни, заключающимися в работах евразийцев.
Каждый, кто работал в области русской географии и русской историософии, знает, сколь мощную и насыщенную традицию являет каждая из них. И потому, нужно думать, в русской географии и русской историософии легче создается и новое — ибо новое бывает традиционным, составляет новое звено идущей в глубину цели… Какой контраст с состоянием, например, русской политико-экономической отрасли! Несмотря на существование огромного количества книг на русском языке, посвященных политико-экономическим предметам, в вопросах теоретической политической экономии до сих пор нет русской науки… Основные теоретические проблемы хозяйства еще не продуманы по-русски. И каждому, кто подошел бы к хозяйственно-экономическим вопросам России-Евразии с задачей самостоятельной мысли, пришлось бы и приходится быть самому себе отцом. Но нужно!.. Великая евразийская культура не может обходиться без самостоятельной и творческой политико-экономической отрасли, которая определяющим образом повлияла бы и на действительное хозяйственное устроение мира… В отраслях же географии и историософии (основах чаемой "геософии") процесс становления в значительной мере уже произошел.
Читать дальше