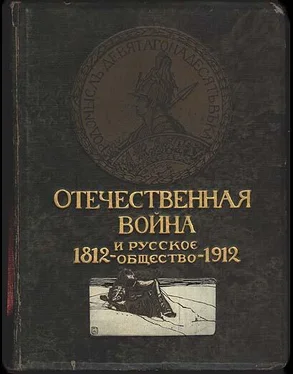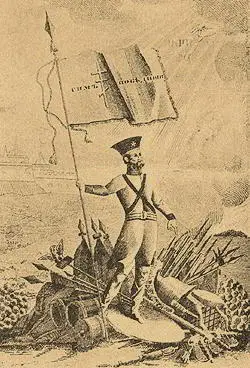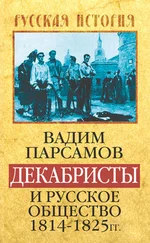В это же время правительство было озабочено ликвидацией ополчения. Когда ополченцы московской военной силы (т. е. первого округа) были разверстаны по полкам, офицеры были переведены в армию. Позднее перед роспуском офицерам было предложено перейти на тех же условиях на постоянную военную службу.
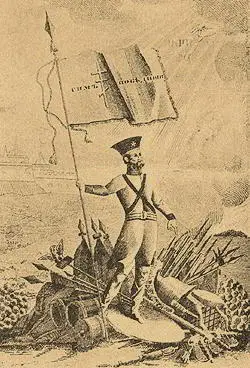
Аллегоричное изображение ополчения 1812 г.
Ратники-ополченцы имели все основания бояться, как бы правительство не устроило с ними как раз того, что проделало оно с милиционерами 1806–07 гг., т. е. вместо временной службы не перевело бы их на постоянную. И есть основание думать, что наиболее близорукие из дворян, которые учитывали лишь выгоду текущего момента, а над будущим совсем не задумывались или, может быть, даже не могли возвыситься до подобных дум, — такие дворяне считали исключительно выгодным это положение: на очереди были новые рекрутские наборы, которые должны были вырвать из их хозяйства новые единицы сил; куда было бы лучше, мог рассуждать подобный помещик, заместить этих рекрутов старыми ополченцами, худшими по качествам пахаря-работника, уже оторванными от родной земли, может быть, развратившимися с их точки зрения. И действительно, в армии начал распространяться слух о том, что дворянство в своих собраниях заговаривает об этом. Кто был в войсках при ополченцах, страшно всполошились: ополченцы-крестьяне были возбуждены против дворян и всякое недоразумение склонны были относить на их счет. Некто Шеллиот пишет из армии: «В Вилькомире слышал я преудивительную вещь, что в Петербурге дворянство назначило причислить людей, коими мы командуем, в 25-летнюю службу. Господи, буди милостив нам тогда. Впредь узнаем мы нашу ошибку; что касается до меня, я бы, на место сих, охотно бы выдал других». Это письмо стало известно императору и он приписал на нем: «заслуживает всякого примечания, нужно необходимо сие опровергнуть». Опровержение было написано; государь подчеркивал, что подобные начинания противоречили торжественному обещанию, данному в июльских манифестах. Но это объявление едва ли могло произвести особо сильное действие и на дворян, которые (не все, конечно) хотели такого зачета ополченцев в рекруты, и на крестьян, трепещущих за свою участь — ведь и в 1806 г. давались торжественные обещания. В одном из писем своих к императору гр. Ростопчин совершенно откровенно, без всяких прикрас, выясняет свою дворянскую точку зрения. «Я должен предупредить ваше императорское величество, что несколько тысяч этих ополченцев из Московской губернии находятся еще в армии, в качестве денщиков, было бы вполне справедливо взять их на действительную службу». Он находит «справедливым», что по отношению «нескольких тысяч ополченцев» допущено забвение основных обещаний манифеста.
Этого не произошло. Но ликвидация ополчения шла с большой выгодой для дворянства. Были допущены зачетные квитанции; так называли квитанции, выдаваемые вместо рекрутов, в зачет тех лиц, которых население могло бы сдать в рекруты, а вместо этого поставило государству натурой на какую-либо другую службу, как в данном случае в ополчение. Убитые и умершие в походах ополченцы рассматривались как рекруты следующего набора и на них выдавались зачетные квитанции. Чтобы яснее понять эту систему зачета, я приведу расчет кн. А. Голицына по его имению Гребнево.
«Расчет по рекрутскому № 83 набору.
В селе Гребневе по 6-й ревизии состоит 1.099 душ.
С оных в московское ополчение отдано 110 человек.
В то число явилось в вотчину при приказах Вогородского земского суда — 56 человек.
Следовательно, в неявке находится 54 человека.
А как в нынешний 83 набор, что с 500 душ по 20 рекрут, с 25 душ следует одного человека представить. То с 1.099 душ и причитается всех зачесть 44 рекрута.
На остальные и поныне в вотчину не возвращавшиеся 10 человек надобно получить для будущих наборов зачетные квитанции».
Мы видим из этого расчета, что для кн. Голицына по этому имению выставлять рекрутов не пришлось, да еще на следующий набор осталось 10 квитанций, т. е. и там ему придется поставить десятью рекрутами меньше, чем будет положено. Знаменитый актер Щепкин, вышедший из крепостной среды, рассказывает, что на этой почве разыгрывалась зависть к тем счастливцам, у кого побольше умерло ополченцев. «Одна дама очень образованная по времени и обществу (даже крепостные отзывались о ней, как о доброй женщине), у графини на именинах, за обедом, не краснея позволила себе сказать в разговоре о прошедшей кампании: „Вообразите, какое счастие Ивану Васильевичу: он отдавал в ополчение 9 человек, а возвратился всего один, так что он получил восемь рекрутских квитанций и все продал по три тысячи; а я отдала 26 человек, и на мою беду все возвратились — такое несчастье“. При этих словах ни на одном лице не показалось даже признака неудовольствия против говорившей. Все согласились, а некоторые даже прибавили: „Да, такое счастье, какое Бог дает Ивану Васильевичу, немногим дается“».
Читать дальше