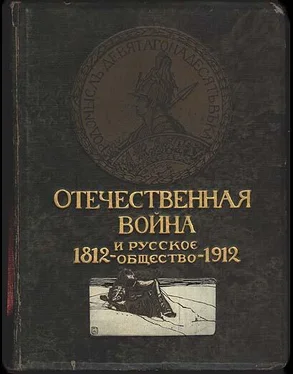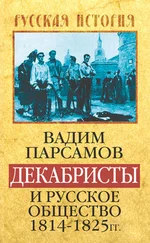В письмах Волковой к Ланской, содержащих по этому делу сведения неточные, сказано: «Пришлось высечь кнутом 300 главных мятежников да сотни две или три прогнать сквозь строй».
По ведомости 8 янв. 1813 г. пензенское ополчение имело следующий состав: 164 офицера, 529 урядников и 7052 воина в 3 пехотных полках и 23 офицера, 51 урядник и 620 воинов в конном полку.
В саратовском конном ополчении была также попытка восстания в 1812 г. «Записки М. Н. Киреева», «Рус. Стар.», 1890 г., № 7, стр. 49. Ростопчин писал имп. Александру 21 сент. 1812 г.: «сегодня утром в одну из моих деревень собралось до 50 ратников, и застрелили офицера». «Рус. Арх.», 1892 г., № 8, стр. 545.
Г. Ф. Фабер (1768–1847), уроженец Риги, издавший несколько сочинений на французском (одно из них против Наполеона), а впоследствии и на немецком языке, служил в 1812 г., в статистическом отделении министерства полиции. Биографические сведения о нем см. в «Русском биографическом словаре», ст. С. Трубачева. Cp. Wolzoger. Memoiren, Leipz., 1851, р. 48.
Английский генерал Вильсон, находившийся в 1812 г. при русском войске, также говорит в своем донесении лорду Каткарту, что всех французов очень удивило «повиновение и привязанность крестьян к помещикам». Дубровин. «Отечественная война в письмах современников», стр. 269.
О действительном положении крепостных в это время см. мою статью в сборнике «Крестьянский строй», изд. кн. П. Д. Долгорукова и гр. С. Л. Толстого. Спб., 1905 г.
Декрет 30 флореаля (20 мая) 1802 г. разрешил торг неграми и восстановление рабства во французской колонии Сен-Домэнг (на острове Гаити) и острове Гваделупе. Adams. Napoleon I et Saint-Dominque. Revue Historique, 1884, і. XXIV.
Курсив во французском подлиннике.
Автор книги «Moscou avant et apres l'inondie», напечатанной в Париже в 1818 г. (Lacointe de Leveau), который также оптимистично относится к крепостному праву, говорит: «Бонапарт надеялся, вступая в Россию, что найдет в ней народ, готовый разбить свои цепи. Последствия показали, насколько тот расчет был ошибочен» (р. 126).
Государственные, экономические и удельные крестьяне в тех губерниях, где составлялось временное внутреннее ополчение, не участвовали в нем, а давали, как обыкновенно, рекрут.
Тем не менее, окончание этого указа было лишь некоторым вариантом первого: «Мы желаем, чтобы воины, приобретшие славу на поле чести, наслаждались оною среди семейств своих в полном спокойствии, и обратили себя по-прежнему на труды и промысел мирных граждан».
Комитет министров, по представлению Вязмитинова, решил «в предупреждение самовольства ратников» разослать предписание, подобное отправленному в Новгород, начальникам всех тех губерний, ополчения которых были распущены, что и было исполнено 18 августа 1814 г.
По получении от Вязмитинова предписания, данного 18 августа, Бакунин сообщил ему, что некоторые помещики желают «беспокойных воинов» отдать в военную службу и полагал, что это можно дозволить с выдачей за годных зачетных квитанций, а не годных отдавать без зачета. Но тут явился вопрос, как быть с теми, которые участвовали в сражениях и получили медали, а некоторые и знаки военного ордена, иные же были ранены и сделались неспособными к труду. По представлению об этом Вязмитинова комитету министров, изданы были правила, утвержденные государем 31 мая 1815 г. Ими было дозволено помещикам и обществам представлять в губернские рекрутские присутствия для освидетельствования людей, возвратившихся из ополчений, которых они признают бесполезными для себя вследствие увечий и других болезней. Рекрутские присутствия должны были отдавать признанного неспособным ни к каким работам в военное ведомство с зачетом помещику или обществу за рекрута, и эти люди причислялись к неслужащим инвалидам на казенное содержание. «Для сохранения общего спокойствия и тишины» не воспрещалось представлять в те же рекрутские присутствия в зачет будущих наборов и таких людей, бывших в ополчении, которые возвратились в свои дома с медалями в память 1812 г. или и без них и оказались «непослушными и беспокойными, следовательно, и в обществе нетерпимыми», не исключая из этого числа и тех, кто получил знаки отличия военного ордена, но неспособных к полевой службе людей приказано было принимать без зачета за рекрута, определяя их в команды внутренней стражи. Дети принятых на службу и на казенное содержание, прижитые до поступления их отцов в военное ведомство, должны были принадлежать помещикам и обществам, а рожденные после того — военному ведомству с отдачей в определенном возрасте в военно-сиротские отделения. Вдовы убитых, умерших или другими случаями выбывших во время нахождения в ополчениях должны были принадлежать помещикам или обществам.
Читать дальше