На многих картах того времени Советский Союз и Восточная Европа были закрашены красным, цветом коммунизма, но в воображении американцев Восточная Европа чаще всего ассоциировалась с серым. Этот серый цвет отражал предполагаемую тусклость жизни в обществе, лишенном культуры консюмеризма, с ее золотыми арками Макдоналдса, в обществе, лишенном «богатства выбора» капиталистической экономики. Отчасти эта серость объяснялась недостатком у нас воображения, нашей неспособностью наполнить красками виды ландшафта или памятников архитектуры — но серый был также и цветом восточноевропейской «примитивности», как ее представлял журнал «Лайф». В иллюстрированном альбоме было, конечно, множество черно-белых фотографий России, со случайными мазками драматически ярких цветов, вроде красных знамен на Красной площади во время празднования годовщины Октября или огромных красных турбин волжских гидроэлектростанций. Глубина экономических и политических расхождений между коммунистической Восточной Европой и некоммунистической Европой Западной мешала заметить, что это ощущение отличности отчасти основывалось на зрительных образах и культурных впечатлениях. Карта Европы в сознании американцев всецело определялась «холодной войной» и «железным занавесом».
Впервые в своей жизни я попал за «железный занавес» осенью 1976 года, в возрасте девятнадцати лет, по путевке молодежного бюро путешествий «Спутник». Это были годы разрядки, когда некоторое улучшение советско-американских отношений сделало подобное путешествие менее пугающим, так что, увидев в Хельсинки плакат, рекламирующий дешевые туры в Россию, я решился потратить свои деньги на это приключение. Уже в ночном поезде из Хельсинки в Москву мне не терпелось с волнением ощутить, что я в чужом мире; и, конечно, тот, кто ищет это волнение, находит его во всем, будь то металлическая экзотичность самовара, из которого нам разливали чай, или угроза, казалось исходившая от советских пограничников, которые обыскали наше купе. Поскольку поезд шел ночью, мои первые впечатления от России, увиденной в вагонное окно, были окрашены в серый цвет рассвета. Мои ожидания подтверждались.
На протяжении следующей недели, проведенной в Москве и Санкт-Петербурге, я мучился перед лицом интеллектуальной проблемы, знакомой всем путешественникам, пытающимся разобраться и свыкнуться со своими впечатлениями: как использовать мои предыдущие познания о Советском Союзе, чтобы понять увиденное мною, и как помешать моим ожиданиям полностью исказить мои непосредственные впечатления? Потрясающая красота Санкт-Петербурга и столичное бурление Москвы с их яркими красками глубоко запали мне в душу, несмотря даже на коммунистические знамена и памятники, подчеркивавшие чуждость всего окружавшего. Идеология разрядки, однако, поощряла диалог, и не только между Генри Киссинджером и Андреем Громыко, но и между советскими и американскими студентами. В программу нашего тура входило посещение советских студенческих клубов, и хотя обычно эти встречи, начинавшиеся заученными декларациями о взаимопонимании между народами, вначале были довольно натянутыми, под воздействием алкоголя обстановка становилась более непринужденной, и завязывались оживленные разговоры о литературе, кино, музыке, сексе и даже политике. В те самые дни, когда я был в Москве, в Пекине умер Мао Цзэдун; к моему удивлению, и русским, и американцам китайский коммунизм казался одинаково эксцентричным и чуждым. Еще одним надежным мостом между культурами был рок-н-ролл; одновременно с нами в московском клубе была группа югославов, и один из них принес с собой гитару. Я помню, как мы, русские, американцы и югославы, бродили по ночной Москве и пели битловский ностальгический гимн, «Yesterday». Но о чем была наша ностальгия? Быть может, мы отмечали расставание с «холодной войной» нашего детства?
Осторожно и не без некоторого скепсиса пытаясь разобраться в своих американских предрассудках о России, я не мог не восхищаться бесшабашной открытостью студента-калифорнийца из нашей группы, который привез с собой фрисби и, в духе разрядки, начинал игру, куда бы он ни пошел. В то время обычная пластиковая летающая тарелка была, мне кажется, незнакома в России, и русские очень хотели научиться этой игре. Я никогда не забуду одну такую игру, которая началась на площади перед главным входом на ВДНХ и достигла наивысшего напряжения с прибытием туда советских солдат. Наша тарелка, легкомысленный символ политической непочтительности, продолжала летать у них над головами, а солдаты, глядя прямо вперед, маршем шли сквозь 1970-е.
Читать дальше
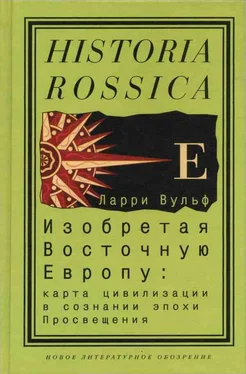




![Татьяна Лабутина - Британские интеллектуалы эпохи Просвещения [от маркиза Галифакса до Эдмунда Берка]](/books/394010/tatyana-labutina-britanskie-intellektualy-epohi-pr-thumb.webp)
![Жорж Вигарелло - История тела Том 1 [От Ренессанса до эпохи Просвещения]](/books/413403/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-1-ot-renessansa-d-thumb.webp)
![Филипп Арьес - История частной жизни Том 3 [От Ренессанса до эпохи Просвещения]](/books/414485/filipp-ares-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-3-ot-renes-thumb.webp)




