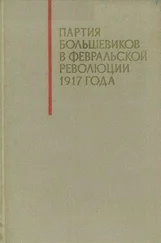Децист Юренев писал, что коммунист-рабочий на производстве зачастую является не чем иным, как делегацией не вполне сознательных масс в коммунистическую партию. Ему не раз приходилось наблюдать этому подтверждение в рабочих коллективах. Например, на общем собрании рабочих решается вопрос: продолжать забастовку или приступить к работам. Долгие дебаты. Наконец, красноречие иссякло и наступает голосование. В итоге — подавляющее большинство за стачку, а против — кучка, среди которой ни одного коммуниста. Нередко во главе рабочих, предъявлявших власти явно невыполнимые требования, становились коммунисты. «Коммунист-массовик не дорожит партией, легко разрывает с ней», — заключал Юренев [145].
Авторитет московской власти заметно ослабел. Тверской губком в начале 1921 года уже демонстративно игнорировал ЦК партии, не поддерживал связь и не информировал о делах. Один партиец, ехавший в Кронштадт мимо Твери, рассказывал, что во время кронштадтских событий в партийном органе тверского губкома печатались статьи «почти меньшевистского характера» [146].
После X съезда разноголосица и смятение в партии еще более усилились. Например, владимирский губком обратился в апреле 1921 года в ЦК РКП(б) с письмом, в котором подчеркивалось, что члены губернской парторганизации, возвратившиеся с подавления Кронштадтского мятежа, «вынесли из этой истории весьма тяжелое впечатление», которое отразилось на всей организации в форме всеобщей апатии к работе и растерянности. В первую очередь, коммунистов, использованных для подавления кронмятежников, поразила массовость восстания и участие в нем не только всех рабочих, но и значительной части коммунистов. Далее, отмечалось в письме, поразило отсутствие связи кронштадтцев с белогвардейским Западом и даже факт отказа от предложенной Финляндией помощи войсками и продовольствием. И что окончательно потрясло коммунистов, так это «массовые расстрелы рабочих и матросов-кронштадтцев, потерявшие смысл необходимого, может быть, террора в силу уже того, что они проводились негласно» [147].
Кроме подобных выдающихся случаев, на атмосфере в партии сказывались застарелые разногласия между «верхами» и «низами». К примеру, в далекой глубинке, в Порт-Петровске (Махачкала) местный уком на заседании 7 мая 1921 года обсуждал вопрос о «полном разложении низов по поводу недовольства к верхам… и совершенном падении дисциплины среди РКП» [148]. Правда, комично то, что укомовцы обсуждали «разложение» низов, поскольку речь шла как раз наоборот о том, что рядовые партийцы выдвигали претензии к своему руководству относительно роскошных квартир и других привилегий, которые присвоили себе «верхи».
С откровенными злоупотреблениями аппарата было проще, сложнее было с другим. Несмотря на бюрократизацию власти, коррумпированность и разложение, проникавшие в виде многочисленных проходимцев через бесчисленные прорехи в быстро растущий, неупорядоченный партаппарат, множество рядовых и ответственных коммунистов в годы войны честно и с самоотвержением служили одухотворяющим идеям строительства нового общества. Начиная работу в своем учреждении в восемь часов утра и заканчивая в восемь вечера, они были нередко обязаны после этого еще идти выполнять, иногда с риском для жизни, поручения партийной организации. Нервное и физическое истощение были заурядными явлениями среди членов РКП(б), отдавались все силы. Однако, в результате резкой смены партийного курса, утраты четких политических ориентиров, «предательства» верхушки, оказалось, что и сами идеалы сомнительны. Вместо заслуженного поощрения и чувства удовлетворения за нечеловеческое напряжение военных лет, они терпели крушение идеалов и личных надежд, нищету. Их изгоняли с постов в Советах, в кооперации и при этом зачастую слышалось: «Было вам время — прокомбедились и отъячейкились». Так писал в газету «Беднота» секретарь жуковского волкомпарта Пензенской губернии И.Пиреев: «А там без коммунистов — воровство» [149]. Доверие к вождям и убежденность в идеологической правоте сменились тяжелыми раздумьями в целесообразности потраченных сил и лучших лет жизни.
Об этом состоянии партийных умов красочно рассказал Валентинов в изложении одной беседе с коммунистом-«середняком» П. Муравьевым, который говорил: «Во время военного коммунизма жилось тяжко, мучил голод, даже мороженый картофель считался редким экзотическим фруктом. Но самый остов, самый костяк существовавшего в 1918―1920 гг. строя был прекрасным, был действительно коммунистическим. Все было национализировано, частная собственность вытравлена, частный капитал уничтожен, значение денег сведено к нулю, а вместо торговли по капиталистическому образцу — в принципе равное для всех распределение, получение материальных благ. Мы осуществили строй, намеченный Марксом… Нужно было только влить в него материальное довольство, и все стало бы сказочно прекрасным. (Но в том то и дело, что в такой строй материальное довольство "влить" было невозможно. — С.П. ). Словно молотом по голове ударило, когда услышали, что нужно нефть в Баку и Грозном отдать заграничным капиталистам в концессию, что им нужно отдать в концессию леса на Севере, в Западной Сибири и множество других предприятий. В тот момент, когда появилась такая мысль, здание Октябрьской революции треснуло, пошатнулось. Это означало поворот к капитализму. Ну, а когда к этому добавилась НЭП, денационализация многих частных предприятий, свобода торговли, реставрация экономических отношений прошлого, многие из нас это восприняли, и не могли не воспринять как измену коммунизму, явное и открытое отступление от всего, за что боролась Октябрьская революция. Она была побежденной…» [150]
Читать дальше
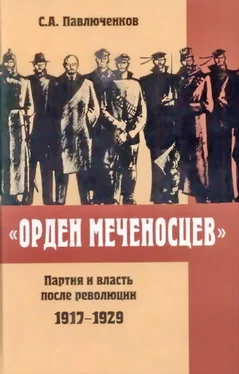
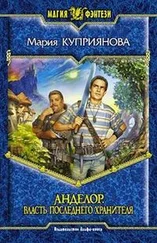




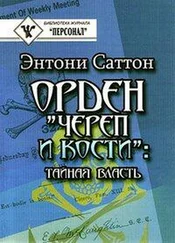



![Дмитрий Галковский - Николай Ленин. Сто лет после революции. 2331 отрывок из произведений и писем с комментариями [publisher - SelfPub]](/books/387728/dmitrij-galkovskij-nikolaj-lenin-sto-let-posle-re-thumb.webp)