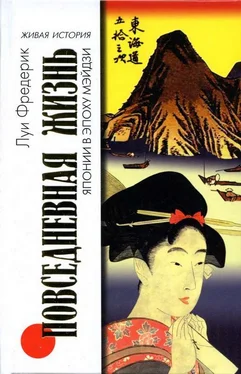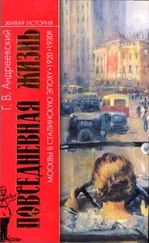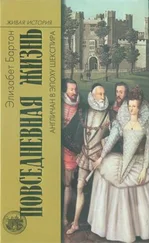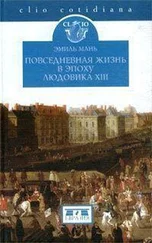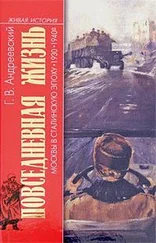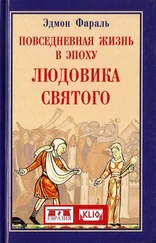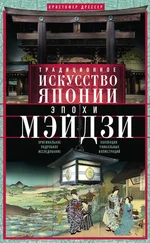Но, как всегда бывает в Японии, где мнения людей, несмотря на их одинаковое социальное поведение, разведены по полюсам, новообращенные или те, кто симпатизировал христианству, вскоре разделились на три лагеря в зависимости от школы, к которой они принадлежали. В Кумамото придерживались христианства, окрашенного национальной тональностью, тогда как в Йокогаме больше склонялись к ортодоксии, а в Саппоро предпочитали более индивидуализированную форму христианства, следуя наставлениям своих пастырей.
Именно в среде подобных «христианских братств» зарождались мысли, касающиеся отношений Церкви и Государства и более метафизические идеи о том, где искать источник Истины. Характерным является и то, что большинство аргументов в пользу христианства, которыми оперировали новые приверженцы этой религии (а они активно публиковали свои работы), были взяты из произведений американских и европейских авторов, так же как и критика прочих западных писателей.
Увлечение христианством закончилось, когда потух интерес интеллигенции к борьбе за права людей (вскоре должна была быть принята конституция) и к политическим выступлениям. Напротив, тяга к вневременным ценностям, к духовности и морали стала увеличиваться. Потеря прагматизма образованными кругами вызвала у народа некоторое осуждение, отлившееся в форму реакции и приведшее к национализму, для которого все западное уступало исконно японскому.
Движение за «новую Японию»
К концу последней четверти XIX века японцы обнаружили, что ни мягкие шляпы, ни карманные часы не делают из них иностранцев: слишком уж велика разница между культурами Востока и Запада. Среди горожан нарастал постепенный отказ от иноземной культуры. Молодежь осознавала, что материальный достаток и технический прогресс не могут полностью удовлетворить ее стремления. Что касается экономической отсталости страны, то она была к тому времени довольно легко преодолена, ведь Японии не нужно было ничего изобретать, а просто требовалось идти вслед за Западом. Но в то же время она испытывала тайное желание доказать европейцам, что, отставая от них в техническом плане, в культурном она не уступает им ничем. Японская молодежь стремилась к самовыражению, к утверждению своей индивидуальности, а население страны в целом вновь вернулось к ценностям предков. Теперь, когда нечего было бояться возврата к феодализму, когда страна находилась на демократическом пути развития, и выборы (правда, имеющие некоторые ограничения) позволяли людям участвовать в политической жизни государства, можно было вновь обратиться к прошлому, даже самому недавнему, и заново открыть для себя великие достижения и произведения своей культуры. Люди, к какой бы нации они ни принадлежали, не могут долго оставаться отрезанными от своей истории без риска быть скомпрометированными ею: им нужны их корни, из которых будет вырастать дерево их судьбы. Программы школ и университетов включали изучение иностранной литературы, но студенты отдавали себе отчет, что им нужно и другое. Симадзаки Тосон (1872–1942) писал, вспоминая о своей молодости: «Это было время, когда мы познакомились со всем разнообразием европейской литературы. Невозможно было уследить за всем ее развитием. Мы, молодежь, были готовы заново воспринять наших классиков».
И действительно, начали вновь издаваться произведения эпохи Эдо, о которых забыли, считая их «феодальными» (то есть не соответствующими эпохе Мэйдзи): пьесы Дзёрури Тикамацу Мондзаэмона, романы Ихары Сайкаку, стихотворения Басё и многие другие. Их изучали с жаром, осознавая, что по многим параметрам они могут составить конкуренцию работам западных авторов. Люди стали улавливать разницу между тем, что было действительно японским, и тем, что таковым не являлось, но вместе с тем никто не думал отвергать поток культурных ценностей, исходящий от Запада. С возвращением литературы Эдо возникла тенденция к восстановлению старых жанров, таких как «никки», или путевые заметки, но на этот раз речь шла о путешествии по всему миру, а не только в пределах Японии. На эпоху Мэйдзи пришелся расцвет романов и новелл, в основе которых лежали народные восстания в конце правления Токугавы и которые, хотя и изобиловали жестокими подробностями, все же демонстрировали нечто вроде политической морали. Возрастало число тем, связанных с проблемами современности. Так, большую популярность приобрели рассказы о колдуньях или проститутках (возможно, это явилось реакцией на большую свободу, предоставленную к этому времени женщинам). В основу сюжетной линии фантастических новелл, рассказов и т. п. легли более или менее современные исторические события, такие как восстания крестьян, политические волнения и преступления, что указывает на нестабильность в стране накануне принятия конституции и заставляет вспомнить о том, что введение гражданских свобод прошло довольно болезненно. Но будущее рисовалось в светлых тонах, и постепенно жанры стали приобретать утопический характер, что видно в таких произведениях, как «Кэйкоку Бидан» (Сказки о суверенитете) Яно Рюкэя, «Кадзин но Кигу» (Неожиданная встреча с двумя прелестными женщинами ) Сибы Сиро или «Сэттю-баи» (Цветы сливы под снегом ) Суэхиро Тэттё, где действие происходит в античной Греции, Америке или Японии прошлых лет или в вымышленном будущем. Этот прием позволял описывать, не опасаясь цензуры, политические чаяния японского народа, его стремления, оттененные идеалистическими настроениями времени.
Читать дальше