Оставшиеся же подъячие (тридцать человек, поскольку один — Никита Титов — умер в начале 1720 г. и был похоронен в Кёнигсберге), после того как их практически выставили из города, были отозваны Сенатом домой. Здесь их проэкзаменовали и 28 человек определили на службу переводчиками в Коллегию иностранных дел, дипломатические миссии в Пруссии, Англии, Голландии, Дании, Польше, а также на различные места в Адмиралтейскую коллегию. Можно заключить, что общий итог командировки оказался положительным: государство получило полезных сотрудников, образование которых, несмотря на описанные трудности, оказалось достаточно высоким и востребованным для нужд петровской России.
Итак, в качестве общих выводов после рассмотрения студенческих поездок из России в Германию в петровскую эпоху, можно сделать несколько замечаний. Во-первых, рубеж XVII–XVIII вв. ознаменовал начало регулярных контактов между Россией и немецкими университетами и, в частности, поездок туда русских студентов. Первые контакты состоялись в эпоху Великого посольства, после которых наиболее важное место в отношении к России сохраняли университеты Кёнигсберга и Галле — первый как ближайший на пути в Европу, второй — как наиболее передовой, где развивались идеи Просвещения и такие ученые, как профессор А. Г. Франке, сознательно заботились о развитии русско-немецких связей в области образования.
Во-вторых, внимание к европейским университетам затронуло в петровское царствование лишь узкую прослойку русского дворянства, в основном среди непосредственного окружения Петра I. Какого-либо специального интереса к университетам сам царь не проявлял и не обсуждал их роли для народного образования, по крайней мере, до разговора с Лейбницем в Бад Пирмонте в 1716 г. Поэтому в целом, количество русских студентов в немецких университетах в эту эпоху невелико, а приобщение России к университетскому образованию еще не дало стабильных плодов.
В-третьих, сразу же обнаружилась достаточно высокая стоимость обучения в немецких университетах, которая превышала личные возможности не только выходцев из недворянских сословий, но и многих дворян. Поэтому значительная часть поездок на учебу финансировалась со стороны государства. Петр I охотно поощрял инициативу отцов, подававших челобитные о помощи для отправки их сыновей на учебу в Европу. С другой же стороны, уже первая массовая поездка группы казенных стипендиатов в Кёнигсбергский университет, организованная самим государством, выявила серьезные проблемы как с финансовой стороны, так и по содержанию самой учебы, ставя вопрос о «практической» пользе университетского образования для государственной службы России, который в петровское время решен не был.
В связи с этим, наконец, обращает на себя внимание то, что четкая специализация обучения россиян в немецких университетах еще отсутствовала. Хотя студенты из России в этот период посещали лекции всех четырех университетских факультетов, утверждать, что немецкие университеты внесли вклад в подготовку для России какого-либо класса специалистов еще нельзя. Можно, правда, подчеркнуть хорошее знание иностранных языков и латыни, которое привозили домой русские студенты, что позволяло им дальше поступать на службу переводчиками, а также указать на начало обучения в Германии в это время российских медиков (среди которых пока присутствовали только выходцы из семей иностранцев). Тем самым, основное значение обучения в университетах для россиян в петровское царствование сводилось пока еще именно к общему ознакомлению с европейской наукой и преподаванием, после чего должен был начаться медленный процесс усвоения университетского образования в России, утверждения его ценности в обществе и государстве.
Глава 3
От Марбурга до Кёнигсберга
Послепетровская эпоха с ее неустойчивым внутренним положением России, частой сменой властителей и «случайных» людей не могла положительно повлиять на складывание отечественных образовательных институтов, которым необходимо было твердое покровительство со стороны государства. Тем самым, вопрос о месте высшего образования в русском обществе по-прежнему оставался открытым, а без дополнительного стимулирования интерес к нему падал [207] Так, в конце 1720-х — начале 1730-х гг. сокращается количество учеников и объем преподавания в Московской академии — см.: Морозов A.A. М. В. Ломоносов: Путь к зрелости. М.; Л., 1962. С. 111.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
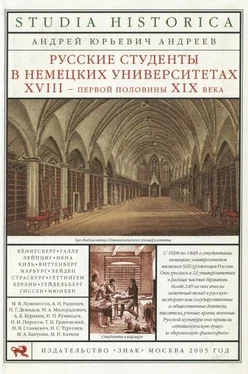





![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/420907/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya-thumb.webp)





