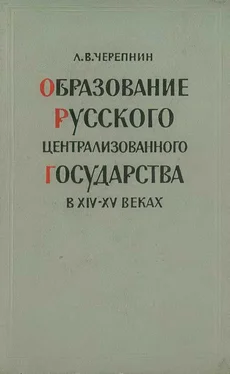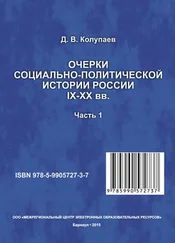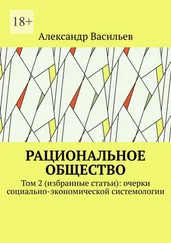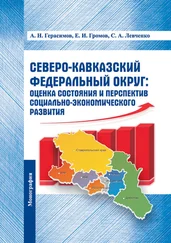О забрасываемых починках имеются данные и в Новгородских писцовых книгах. Так, Нечай и Третьяк Константиновы дети Валовова с братьею «покинули» починки, поставленные «на лесу», «потому что худы и в розни» [511] НПК, т. IV, стр. 295.
.
Но в целом ряде случаев починки становились основой развития земледелия на новом месте.
Интенсивная расчистка лесов под пашню в условиях, когда не существовало строгих границ в лесных чащах между владениями отдельных земельных собственников, приводила к постоянным столкновениям и тяжбам между различными феодалами, и особенно между феодалами и черными крестьянами.
Из жалованной грамоты угличского князя Андрея Васильевича Троице-Сергиеву монастырю 1472 г. вырисовываются те приемы, к которым прибегали монастыри, расширяя площади под пашни. Монахи посекли лес, находившийся в пределах черной волости, вспахали вырубленный участок и присоединили его к пашне своего сельца Васильевского, а затем добились от князя закрепления за ними этого участка специальной грамотой. «Что секли лес и пахали мой, княж Андреев Васильевича, старь, не делавую землю, к своей земле к манастырской, к Васильевскому сельцу в Кинелке, и во огород выгородили в поле…», — так описывается в названном документе хозяйственный процесс, приводивший к росту пашенных земель. Характерен фигурирующий в грамоте термин « деловая земля ». Это — земля старопахотная, противопоставляемая пашне, вновь заведенной на месте, вычищенном из-под леса. Так черные крестьяне лишились части принадлежащего им леса.
Часто монастырские власти настаивают на сносе поселений, основанных черными или дворцовыми крестьянами, доказывая, что они использовали для этих поселений монастырские земли. Так, крестьянин села Павловского Угличского уезда, принадлежавшего князю Андрею Васильевичу, выстроил избу в лесу, положив основание починку. Тогда посельский села Прилук Троице-Сергиева монастыря «бил челом» названному князю, утверждая, что починок находится на земле, принадлежащей монастырю. Расследование, проведенное в интересах монастыря, привело к выводу, что починок поставлен «у монастырских деревень на заполицах» (на залежных землях). В результате князь призвал к себе посельского села Павловского и велел ему «тот починок сметать» (т. е. снести). «И яз, господине, тот починок сметал, и от тех мест, господине, хрестияне монастырские тот лес секут и до сех мест и росчисти свои косят», — говорил посельский в 1495–1497 гг. судье, разбиравшему земельную тяжбу крестьян села Павловского с Троице-Сергиевым монастырем [512] АСЭИ, т. I, стр. 299, № 408; стр. 458–460, № 581.
. Дворцовые крестьяне не примирились с тем, что возведенные ими жилые постройки были ликвидированы, не бросили освоенного места и продолжали вырубать для сельскохозяйственных целей лесные заросли.
На 1495–1498 гг. падает спорное дело между властями Спасо-Ярославского монастыря и крестьянами Алексеем и Кондратиком Мартыновыми. Монастырский старец Леонтий обвинял последних в том, что они «поставили сильно» на монастырской пожне починск. Ответчики указали, что спорную землю они получили для заселения по грамоте, данной от великокняжеского имени, что они завели починок на неосвоенном еще месте, где не было следов более ранних поселений, свидетельствующих о праве собственности на это место монастыря: «Сели есмя, господине, на то место на пусто, и не на дворище… и тот есмя, господине, починок поставили…, не ведая, что тот позем монастырски…» Поскольку грамоту, предоставлявшую им право на поселение, ответчики потеряли («и по грехом, господине, та ся у нас грамота утеряла»), но они вложили труд в постройку починка и устройство пашни, они просили оставить в их владении двор и пашенный участок («чтобы, господине, архимандрит, да и ты, старець, нашие силы не похотели, что есмя двор ставили, а ярь сеяли и лес секли…»). Но старец потребовал либо сноса двора, либо передачи его в собственность монастырю за определенную денежную плату: «Силы вашие не хотим, — любо двор снесите, любо архимандрит вам за двор дасть, чем люди добрые обложать на посилие» [513] «Сборник Муханова», № 45.
.
В 1504 г. возник судебный спор у Калязина монастыря с черными крестьянами Степаном и Аксеном Щелковыми. Монастырский старец рассказал на суде о том, как принадлежащие Калягину монастырю крестьяне «посекли» лес на двух пустошах Кашинского уезда (Крутце и Красном), основали там починки, возвели «хоромы». Но затем, по словам истца, в этих починках поселились («ввезлися сильно») вышеупомянутые черные крестьяне. Будучи допрошены судьей, последние нарисовали несколько иную картину, чем та, которая изображена была истцом. По их словам, их «посадил» в этих починках дворский черной Жабенской волости. «А хоромы, господине, поставлены и лес, господине, посечен, а не ведаем, господине, хто те хоромы ставил и лес сек», — говорили ответчики, обращаясь к судье. Далее на суде выяснилось, что обвиняемые черные крестьяне неоднократно обращались к дворскому с просьбой выдать им льготные грамоты на полученные починки, но тот все время откладывал это, ссылаясь на болезнь. «Как ся, дасть бог, омогу, и яз у вас буду и грамоты вам льготные подаю», — говорил дворский. Но затем он умер. А монастырский старец, приехав туда, где были расположены спорные жилые постройки, заявил черным крестьянам: «То починки наши, а ставили те починки крестьяне наши на наших пустошех, да и лес секли». Слышав такой «повет» и не имея «крепости… на те починки никоторые», Степан и Алексей Щелковы были вынуждены отказаться от предоставленных им участков и уйти оттуда («и мы… с тех починков ся и свезли и долой») [514] ЦГАДА, ф. Калягина монастыря, кн. 1, № 30, л. 40.
.
Читать дальше