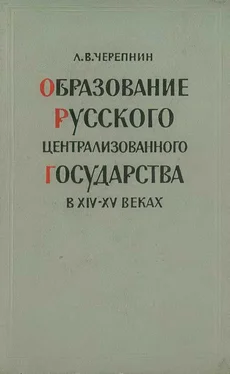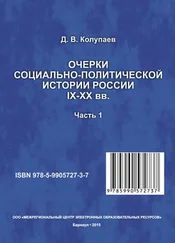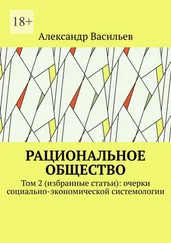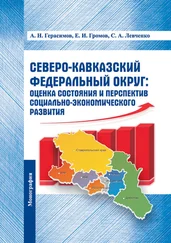По купчим грамотам второй половины XV — начала XVI в. из архива того же монастыря известно 59 актов купли-продажи земли. Из них в одном акте цена земельного участка установлена в 120 рублей, в одном случае цена земли равна 95 рублям, в одном случае — 85 рублям, в двух — за земельные участки уплачено по 80 рублей, в одном — 75 рублей, в одном — 70 рублей, в двух — по 60 рублей, в двух — по 50 рублей, в трех — по 40 рублей, в одном — 30 рублей; 5 сделок совершены на суммы от 20 до 30 рублей, 15 сделок — на суммы от 10 до 20 рублей, 22 — на суммы от одного рубля до 10 рублей, 2 — на суммы менее одного рубля каждая [517] АСЭИ, т. I, № 389, 415, 528, 484, 546, 444, 334–335, 241, 448, 379, 381, 382–383, 487, 566, 258, 392, 449, 488, 547, 648, 259, 267, 273, 283, 384, 386, 387, 390, 404, 478, 480, 509, 569, 616, 240, 242, 252, 266, 268, 281, 285, 287, 288, 324, 333, 380, 395, 410, 426, 427, 452, 471, 481, 496, 622, 638, 606, 634.
.
О довольно значительных затратах на покупку земель, производившихся духовными феодалами, можно судить и по материалам Иосифова-Волоколамского монастыря. В купчих грамотах на земельные участки и селения, приобретенные этим монастырем во второй половине XV в., называются следующие цены: 13 рублей за луг, 25 рублей за сельцо, 30 рублей за село. 40 рублей за деревню, 50 рублей за село, 70 рублей за сельцо, две деревни и селище, 70 рублей за сельцо, 80 рублей за 6 деревень и пустоши, 100 рублей за 6 деревень, 120 рублей за 3 деревни и луга, 230 рублей за село, 14 деревень и 4 пустоши [518] АФЗХ, ч. 2, стр. 10, 12, 13, 15, 16, 27, 32, 34, 35, № 2, 6, 7, 10, 12, 24, 28–32.
. Во всех случаях я опускаю указание на «пополонок» к денежной сумме (коровами, лошадьми, предметами одежды).
О том, что в XV в. земля играет уже значительную роль в качестве объекта купли-продажи, свидетельствует и установление на нее в это время какой-то шкалы цен, уровень которых менялся в зависимости от качества, местоположения земельных участков и других условий. Поэтому при отчуждении земель иногда производился специальный осмотр в целях определения их продажной цены. Так, согласно условиям купчей грамоты 1474–1496 гг., Ф. И. Пильемов-Сабуров, приобретший у А. Д. Годунова за 60 рублей его вотчину — село Коломенское на реке Москве, должен был вместе с выделенными последним лицами произвести на месте оценку купленной недвижимости («возъехати на ту землю» и «учинити цена тому селу, чего будет то село достойно»). В зависимости от результатов такой оценки или покупатель обязан был сделать доплату к указанной в купчей грамоте денежной сумме, или же, напротив, продавец должен был вернуть покупателю полученный с него (сверх реальной стоимости недвижимости) излишек денег [519] АСЭИ, т. I, стр. 336, № 448.
.
Весьма показательно, что иногда землевладелец покупает землю, затрачивая на нее определенную сумму, а затем обменивает эту землю (с какой-то денежной приплатой) на другую, тем самым увеличивая или же округляя свои земельные владения. Следовательно, с землей проделываются довольно сложные денежные операции. Так, в 1482–1508 гг. княгиня Мария Голенинас детьми выменяли у М. Я. Шульгина с детьми «их вотчину», сельцо Шульгино с селищем Высоким в Рузском уезде, отдав им со своей стороны «свою куплю» — деревню Оленинскую Рунова и, кроме того, приплатив 40 рублей денег [520] АФЗХ, ч. 2, стр. 20–21, № 16.
. В 40–70-х годах XV в. князь Ф. Д. Пожарский совершил обмен землями со своим троюродным братом М. И. Голибесовским и доплатил ему при этом 40 рублей [521] АСЭИ, т. II, № 451.
.
Характерно, что, покупая населенные и обработанные земли (села, деревни), феодалы (особенно, духовные — монастыри) ассигнуют денежные средства и на приобретение земель пустующих (которые также обладают ценностью) с целью завести на них хозяйство в дальнейшем. Так, в 1444–1483 гг. игумен Калязина монастыря Макарий купил ряд пустошей: у Н. И. Лукина — за 3 рубля, у Андрея Александровича — за 3 рубля, у тверского великого князя Бориса Александровича — за 5 рублей и за «деньгу золота», у Я. Г. Ушакова — за 4 рубля [522] ЦГАДА, ф. Калязина монастыря, кн. 1, № 27, л. 37; № 5, л. 13; № 17, л. 27; кн. 4, № 40, л. 27 об.; № 83, л. 77 (большое количество пустошей переходит в монастыри по вкладам, см там же, кн. 1, № 2, л. 10; кн. 4, № 20, л. 13; № 31, л. 22 об.;№ 1, л. 1; № 70, л. 62 об.; АСЭИ, т. II, № 440).
и т. д.
При всей несомненности фактов довольно значительной (в среде главным образом господствующего класса) мобилизации земли и роли в этом процессе денег характер, темпы, формы земельной мобилизации регулировались феодальными отношениями.
Весьма показательно, что в условиях натуральной экономики при продаже или обмене земли придатком к денежной сумме, уплачиваемой за отчуждаемый земельный участок, часто служит зерно (рожь, пшеница, овес и т. д.). Такого рода доплата хлебом к выражаемой в деньгах стоимости приобретаемых недвижимых имуществ характеризует, например, земельные сделки небольшого Троицкого Калязина монастыря. Так, в 1458–1459 гг. игумен этого монастыря Макарий выменял у своего слуги Кузьмы Игнатьева землю в обмен на монастырские деревни, «а придал… ему 10 кадей ржи да кадь овса». В 1444–1483 гг. тот же игумен менялся деревнями со Степаном и Борисом Григорьевичами Ушаковыми, доплатив им за их владения деньгами с придачей хлеба (24 кади ржи, 20 кадей овса, «да семяна в земли пять кадей ржи»). В те же годы игумен Макарий купил «пустыню» Кобылинскую, заплатив за нее 3 рубля «да три оковы ржи пополнка». В начале XVI в. игумен Калязина монастыря Пахомий совершил обмен землями с Д. О. Коржавиным, отдав последнему дополнительно к переходящим к нему монастырским земельным участкам 2 рубля деньгами, 20 кадей ржи, 40 кадей овса, 2 кади пшеницы, 3 кади ярицы [523] ЦГАДА, ф. Калязина монастыря, кн. 1, № 4, л. 12; № 15, л. 25; № 5, л. 13; кн. 4, № 31, л. 20.
.
Читать дальше