Местная газета поместила извещение о смерти «партизана Великой Отечественной войны, кавалера орденов Советского Союза и полного георгиевского кавалера». Хоронил его колхоз — самая богатая организация станицы. Затрат председатель не жалел. Постояв в почетном карауле, Дмитрий Глебович спешно погнал свою «Волгу» куда-то, уехал. Тело для прощания выставили в красном уголке клуба. Стали прощаться — последнее целование.
— Один я от нашей присяги остался, — бодро сказал старик Игнат Гетманцев и отошел, дал место другим.
— Хитрое дело, — сказал один станичник, простившись с покойным, было три брата, все померли, а жены у всех целые!
На длинных худых ногах приковылял дедушка Исай, старинная серебряная монета, уже не ходячая, годная лишь для музея. Он носил бороду тогда, когда покойник играл еще в бабки. На ощупь поцеловав бумажную ленту с инициалами Иисуса Христа на лбу мертвого, строго, как к живому, обратился:
— Ты что же это, соловей залетный, без очереди заскочил? Я ведь должен давно, уже и приготовил меня господь — ослепил. Ну, теперь не задержусь. Поклон нашим передавай. Режьте там райских баранов, гоните вино в виноградниках господа, стелите бурки на горах Синайских, ждите меня на пир-беседушку.
Мария в эти дни болела. Узнав о смерти Спиридона, встала через силу. Смерти уже не потрясали ее — скольких похоронила! Но на похоронах не жалела себя, шла в любую стужу и грязь хоронить родных или знакомых. А сама уже как сухой листик, который вот-вот упадет с дерева. Вновь худая, как в детстве, качалась она былинкой за гробами станичников.
Дул пронизывающий ветер, летел холодный туман. Дмитрий просил мать сесть в теплый колхозный автобус, а еще лучше в его председательскую «Волгу». «Да то как же! — сказала Мария. — Я пойду пеши, за гробом!»
Но в похоронах ей пришлось участвовать в качестве главного действующего лица. Не успели вынести гроб Спиридона, Мария упала кровоизлияние. И пока Спиридон ждет ее, чтобы двинуться вместе в обитель праха, мы расскажем последний жестокий рассказ из жизни Марии Федоровны Синенкиной, в замужестве Глотовой и Есауловой.
С семи лет приученная к одной жестокой добродетели — работе, она и на пенсии продолжала трудиться, живя своим двориком, в бабьем платочке, с черными жилистыми руками. Две кошки у нее, собачонок, куры, гуси. Землю при доме засевала редькой, луком чесноком. Вставала затемно, копала, полола, поливала, на тачке везла на рынок. Целый день как в колесе. Все доходы тратила на внуков, баловала их подарками, отсылала деньги тайком от Митьки в Москву да в Ленинград, где внуки учились или делали вид, что учатся. А однажды и пенсию пришлось отослать и в долг взять деньжат — одна внучка вознамерилась посетить сразу три демократических республики, раскошеливайся, бабка!
Вечерком выпьет две-три чарочки домашнего винца — из варенья гнала, посмотрит чуток телевизор и спать — вставать до звезды, когда уже гуси, самые ранние жители утра, требуют корма. Удивлялись двужильности тети Маруси, часов по шестнадцать ургучает летом и — ничего, не гнется. Соседский фельдшер, сам восьмидесяти семи лет, говорил: «Потому и не гнется, не падает, что ее хомут держит. Хвороба за семь верст таких обходит». Славилась по станице квашеная капуста тети Маруси, соленые помидоры, моченые яблоки у нее «вышний», божественный сорт. И вот случилось: подпала ее хата под снос — решили дом тут многоэтажный строить. Бабка расцвела: «На этаже буду жить, а спать на балконе, вот!»
Сломали древнюю хату Синенкиных, деревья вытащили из земли трактором, а Марии Федоровне дали прекрасную однокомнатную квартиру. Кое-что из старья ей удалось затащить в новую квартиру, но Митька завез ей новую мебель, ковер постелил, этажерку для книг поставил — читай, мать, развлекайся, отдыхай, ты свое отработала. А отдыхать она за жизнь не научилась. Раз, правда, до войны посылал ее колхоз в крымский санаторий, вот даже карточка есть — с группой отдыхающих под кипарисом. А потом отдыхать не приходилось. Квартиру бабы-подружки и колхозные мастера довели до ума, отрегулировали, покрасили, побелили, справили новоселье. А дальше пошло хуже. Люди ушли. Сидит она одна целыми днями. Гусей на этаже держать не станешь, дел никаких — поел и спи, телевизор приелся. Стала тетя Маруся сдавать на глазах. Как дерево, пересаженное в позднюю, несажалую пору, да и не в ту землю. Сидит тихая, грустная, увядающая, карточки старые пересматривает, а то глазами ищет в море крыш конек с медной волчицей там жактовские жильцы проживают.
Читать дальше
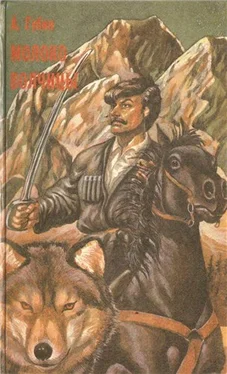



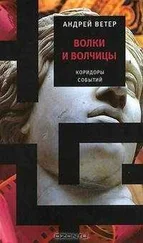


![Буало-Нарсежак - Замок спящей красавицы [Волчицы • Дурной глаз • Замок спящей красавицы • Фокусницы]](/books/424831/bualo-thumb.webp)

