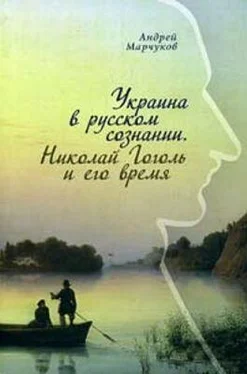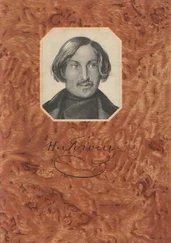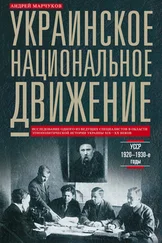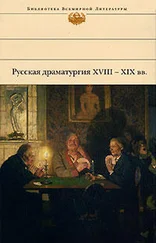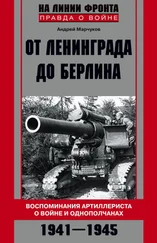Но главное даже не в этом. Гоголь писал не икону с казачества. И не считал то время «золотым веком» Малороссии, как думают некоторые. И все эти негативные черты облика запорожцев были ему важны не меньше, чем их высокие порывы, которые иначе, как на таком фоне и не были бы заметны. Ведь эта повесть — не только о борьбе зримой, о войне казаков против католиков-поляков и нехристей- татар. Она ещё и о борьбе незримой, о духовной брани отдельного человека и общества в целом со своими собственными грехами, об их преодолении и нравственном взрослении. Эта повесть — о духовном выборе, который надлежит сделать её героям (и человеку вообще). И потому гибель запорожцев, сделавших этот выбор, «подавших друг другу руку на братство» и породнившихся «родством по душе», подчёркнуто религиозно-возвышенная. Она очищает их от былой неправедности, если таковая была в их жизни, и содержит в себе прообраз преображения.
Обращаясь к прошлому, такого же товарищества, такого же нравственного взросления, такого же преображения (только уже прижизненного) Гоголь ждёт и ищет в русском обществе, где разные политические лагеря начинают расходиться всё дальше, всё меньше начинают слышать друг друга, своими спорами, «непониманием» и «социальным взглядом» терзая Россию. Единения (и между собой, и с Россией) хочет Гоголь и от малороссов, среди которых предчувствует зарождение того ложного и опасного с его точки зрения течения (украинофильского, украинского), которое поставит под сомнение национальное и культурное, а после и политическое единство Великой и Малой Руси. Объединить Россию, помирить её, призвать на общие, великие дела, главное из которых — постижение Божией Истины и жизнь в согласии с ней (а это неизменно приведёт к преображению всей жизни, к преодолению всех бед и пороков), хочет он.
«У меня не было влеченья к прошедшему. Предмет мой была современность», — скажет Гоголь в своей «Авторской исповеди» [290]. Вторая редакция «Тараса Бульбы» — это книга о России вообще, хоть и поданная через малороссийский материал. Если бы Гоголь сам не чувствовал внутреннюю потребность в до-, переработке «Тараса Бульбы», придании ему отчётливо русского характера, он вполне мог бы его не трогать, как не трогал больше «Вечера» или другие произведения «Миргорода», или, наоборот, мог бы оставить и даже усилить сугубо казачий колорит и идейность этой повести (как это вскоре стали делать в своём литературном творчестве П. Кулиш и Т. Шевченко).
Но писал всё это Гоголь не под давлением или чьему-то указанию, а по своей воле, в полном согласии со своими убеждениями и душевными порывами. Заметим, что работал он над второй редакцией «Бульбы» (с осени 1839, но в основном уже после середины 1840 года) параллельно с работой над «Мёртвыми душами» (вышли в мае 1842 г.), видя в них произведения, которые с разных сторон должны раскрыть одну глобальную проблему — проблему преображения человека, оживления его души, помочь людям разрешить которую он и хотел своим творчеством. И притом период их создания — один из самых счастливых и гармоничных в жизни Гоголя [291]. Вот эта вторая редакция «Тараса Бульбы» и стала подлинно поэмой, героическим эпосом, повлиявшим уже на современников писателя и продолжающим воздействовать на умы и сердца его потомков. Ведь именно она стала её главным, эталонным текстом.
Конечно, не все современники тотчас обратили внимание на нюансы второй редакции. Довольно показателен вопрос, с которым Николай Языков обратился к своему брату: «Он (Гоголь. — А. М.), помнится, переделал «Бульбу» для нового издания своих сочинений — заметил ли ты это?» [292]Причина тому — всё тот же малороссийский материал. К примеру, Степан Шевырёв, комментируя гоголевское творчество, замечал, что в своих малороссийских произведениях писатель проделал путь от отрицания к утверждению (то есть от констатации отрицательных сторон жизни и человеческих черт к утверждению положительных), перейдя от склочных помещиков и аморфного Шпоньки к героической повести о Тарасе Бульбе. И дальше он выражал надежду и уверенность, что подобная эволюция произойдёт и «в жизни русской», и Гоголь от «Ревизора» и «Мёртвых душ» перейдёт к «высоким созданиям в роде “Тараса Бульбы”, взятых уже из русского мира» [293].
Шевырёв верно уловил главную мысль Гоголя, которая, по мере работы писателя над «Мёртвыми душами», всё больше становилась движущим мотивом его творчества. Но в отношении «Тараса Бульбы» он допустил неточность: эта вещь лишь по форме относилась к прочим украинским произведениям писателя, по содержанию же она принадлежала к «русскому миру». Это, кстати, ещё раньше, до выхода второй редакции, почувствовал Белинский. Продолжая свою мысль о тематической и содержательной ограниченности произведений на украинскую тематику (особенно написанных на малороссийском наречии), он с удовлетворением констатировал, что писатель сумел преодолеть эту локально-этнографическую ограниченность и поднялся к проблемам всероссийским и всечеловеческим: «Для творческого таланта Гоголя существуют не одни парубки и дывчины…, но и Тарас Бульба с своими могучими сынами» [294]. И хотя в повести критик видел скорее картины исторические, а не параллели с современностью, он отмечал, что вторая редакция стала «бесконечно прекраснее».
Читать дальше