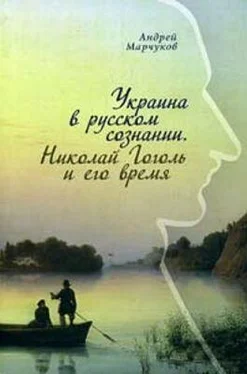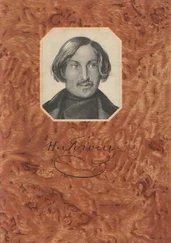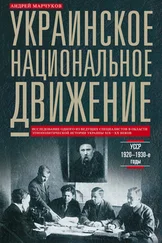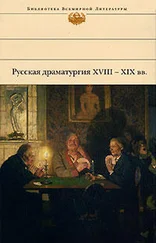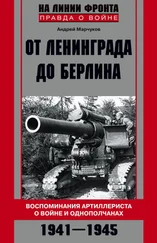Но как тут понять, «украинская» ли она, или же это южная ночь вообще («балканская», «крымская», «итальянская»), увиденная глазами человека «с севера»? Южную ночь ни с чем не сравнить, и всякий, хоть раз окунувшийся в неё, уже никогда её не забудет. Не забудет её тёплого дыхания. И бездонно-чёрной глубины усыпанного звёздами неба, такими ярким и близкими, что, кажется, можно дотронуться до них, стоит лишь протянуть руку. И возникающего под этим, словно бы раскрывшимся, небом чувства сопричастности с вечностью мироздания… Почувствовать разницу мог разве что сам южанин, не просто видевший эту ночь, но пропустивший её через себя.
Гоголь любил эту ночь. В записях Михаила Максимовича сохранился один замечательный эпизод, относящийся к 1850 году. Ему довелось путешествовать по родным для Гоголя местам, а затем они встретились с Николаем Васильевичем и направились к тому в гости. «Мы переехали через Псёл и ехали в Васильевку ночью, при свете полного месяца, — вспоминал Максимович. — Наслаждением для меня было промчаться вместе с Гоголем по степям, лелеявшим его с детства. И никогда я не видал его таким одушевлённым, как в эту Украинскую ночь» (выделено самим Максимовичем) [203].
Прочувствовав эту ночь изнутри, Гоголь хотел всему миру показать её прелесть и очарование. И потому не мог согласиться с пушкинским описанием, слишком, как ему казалось, общим, неконкретным, сделанным скользнувшим по ней мимолётным взглядом. «Только я знаю, какая она!» — как бы хотел воскликнуть он и с молодой горячностью вступил с Пушкиным в замаскированный спор, от лица Рудого Панька спросив русского читателя (а может, и самого поэта): «Знаете ли вы украинскую ночь?» И тут же сам ответил: «О, вы не знаете украинской ночи!» И, заинтриговав, дал своё ощущение этого образа:
«Всмотритесь в неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся ещё необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключён в тёмно-зелёные стены садов. Девственные чащи черёмух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник — ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А вверху всё дышит, всё дивно, всё торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в её глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдруг всё ожило: и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его посереди неба… Как очарованное, дремлет на возвышении село. Ещё белее, ещё лучше блестят при месяце толпы хат; ещё ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены. Песни умолкли. Всё тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин» [204].
С такой эмоциональностью передать образ ночи и дремлющего украинского села [205]мог лишь тот, кто с детства впитал его и хочет, чтобы так же, как он сам, полюбили его другие. И, как и в случае со знойным летним днём, образ «божественной» малороссийской ночи становился ещё более живым и конкретным на контрасте с северными ночами, где соловьи, уж конечно, не могли «греметь», а месяц не мог плыть так же «блистательно и чудно», как там, «в необъятных пустынях роскошного украинского неба» [206].
Хотя если вдуматься, то так ли уж сильно отличается это экспрессивное, личностное описание от сдержанно-простых, но ёмких строк Пушкина? Но здесь важно другое. И знойное лето, и божественная ночь, и сады с налитыми тяжёлыми плодами и свисающими до земли ветвями, всё это «яхонтовое море слив» и «багрянец вишень», создавали неповторимый зрительный образ Малороссии. И все эти краски сливались с красками степи — одного из самых ярких образов в гоголевской природно-географической палитре.
Образ поля-пространства в русской культуре занимает одно из важных смысловых мест. Русский мир издревле был тесно связан со степью или, лучше сказать, со Степью, поскольку представала она для Руси-России скорее не как природный регион, а как особый культурный мир. Мир — пограничье, мир — конкурент, близкий географически и важный политически, но таящий в себе постоянную опасность. И даже как переходное пространство от «этого света», где полной грудью дышит жизнь, на «тот», где очень вероятна смерть (что было отражено уже в «Слове о полку Игореве»). Из Степи приходил враг, начиная ещё с печенежских и половецких нападений на Киев и заканчивая опустошительными набегами крымских татар на малорусские земли и саму Москву; туда угоняли в рабство русских людей. И одновременно там закалялась в боях Русь, именно там проявлялся человек, именно там жизнь могла одолеть смерть. Русский мир, в конечном счёте, победил — угроза была устранена, степи стали российской землёй и постепенно заселялись великороссами и малороссами. Но эмоциональный контакт с этим миром, недавно ещё чужим и опасным, а теперь враз ставшим своим, устанавливался ещё долго.
Читать дальше