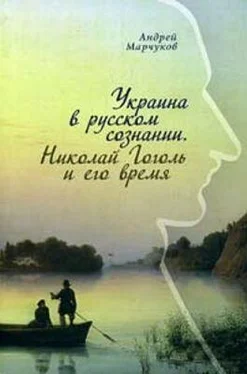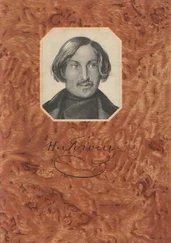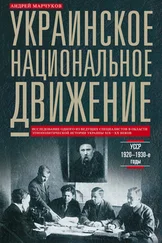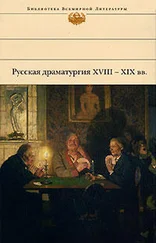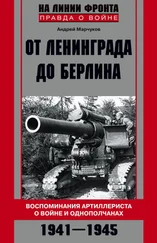И, наконец, и это пятый момент, на образ «непохожего» народа, особенно на отношение к нему как к «казачьему», повлияла память о не столь уж давних временах Хмельницкого, казацких восстаниях и войнах, из которых этот «народ» (разумеется, казаки, ставшие олицетворением края) и вышел. Вся его историческая память: и народная, выраженная в песнях и думах, и особенно высшего сословия, отразившаяся в казачьих летописях (XVIII в.) и «Истории Русов» (начало XIX в.), — касается именно этого периода и в более глубокие времена почти не заходит.
Нелишне отметить, что во второй половине XIX века именно эта сословно-казачья версия исторического прошлого легла в основу «национально-украинской концепции истории». Тем самым были заложены принципы восприятия Украиной (как особым национально-государственным организмом) древнерусского периода — как «не своего». И даже целенаправленная и настойчивая работа ряда представителей украинского движения по привязке «казачьего» периода к «доказачьему» и выстраивание непрерывной цепи украинской истории как начинающейся от древних времён поставленных целей достичь так, по сути, и не смогла. Соединение оказалось скорее механическим: слишком разными по духу, социальному опыту, языку, целеполагающей идее остались эти периоды.
Сословно-казачья трактовка прошлого (а вслед за ней во многом и национально-украинская концепция истории) и явно, и даже подсознательно не ощущает духовной близости того «казачьего народа», от лица которого выступает, не только с эпохой Древней Руси, но даже с прошлым южнорусских земель литовско-польского периода, если только оно не связано напрямую с казачеством. Причина проста. Чтобы консолидироваться в особую социальную группу и добиться признания российским государством своего статуса, претендующей на всю полноту власти в малороссийском крае казачьей старшине просто необходимо было искать «подтверждения» своей социальной, а то и этнической особости в прошлом. Или же сконструировать их сознательно. По понятным причинам времена древнерусского единства для этого совсем не подходили. Так же, как затруднительно было их отыскать (или создать) и в рамках концепции обще- русскости, которую западнорусские церковные и светские деятели конца XVI — первой половины XVII века использовали для достижения целей, прямо противоположных: для утверждения своей русскости и обоснования желательности единства с Россией. Зато это вполне можно было сделать в рамках идеи особого «казачьего народа» [77] См.: Толочко А. «Русь» глазами «Украины»: в поиске самоидентификации и континуитета // http://zarusskiy.org/russ/2008/07/22/ukraina/. Оригинал статьи: II Мiжнародний конгрес украïнiстiв. Ч. 1. Львiв, 1994. С. 68–75.
.
Тем самым её адепты сами «разводили» «казачью» и русскую истории во времени. И литераторы-малороссы конца XVIII — начала XIX века (скажем, И. Ф. Богданович, К. М. Парпура, В. Г. Маслович) разрабатывали древнерусскую историческую тематику именно как историю рус- скую-российскую. Которую, впрочем, они считали своей (как и историю России вообще), но не по причине собственного малороссийского происхождения, а исходя из своей принадлежности к общерусскому культурному пространству, как русские люди. Однако «казачья» и русская история были «разведены» лишь во времени, но не в пространстве.
Именно наличие этнографически-специфического «казачьего народа» и приводило оба присутствовавших в русском сознании ментальных пласта-восприятия этой земли в известное противоречие. Посещая Чернигов, Переяславль или тот же Киев, известные им по летописям, современным историческим сочинениям и недавно открытому «Слову о полку Игореве» (оно было опубликовано в 1800 году и произвело глубокое впечатление на современников), путешественники ожидали и хотели увидеть что-то, что напомнило бы им о той поре. Или, лучше сказать, что укладывалось бы в имевшийся у них образ региона как древней Русской земли и «колыбели отечества».
«Нет ничего замечательного» — вот лейтмотив при взгляде на города Украины как на современные населённые пункты. Даже Киев оказывался в том же ряду, если человек смотрел на него не как на святой град, а как на «мать городов русских». «Странный этот город Киев, здесь только крепости и предместье, и мне наскучило отыскивать город, который по всем признакам, в старину был так же велик, как Москва». «Я всё ищу: где город; но до сих пор ничего не обрела», — такое впечатление произвёл Киев на государыню Екатерину II, посетившую город в 1787 году. Впрочем, она отметила его «прелестное местоположение» [78] Русская старина. Т. 8. 1873, ноябрь. С. 671–672, 684; Верстюк В. Ф., Горобець В. М., Толочко О. П. Указ. соч. С. 322.
.
Читать дальше