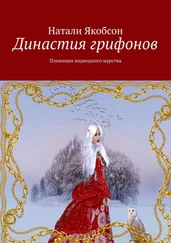«Михаил Абрамович Морозов вообще был чрезвычайно характерной фигурой, – писал в своих воспоминаниях С. П. Дягилев, – в его облике было что-то своеобразное и неотделимое от Москвы, он был очень яркой частицей ее быта, чуть-чуть экстравагантной, стихийной, но выразительной и заметной».
Со своей молодой женой и детьми Михаил Абрамович жил в собственном особняке с античными колоннами в Глазовском переулке, недалеко от Смоленского бульвара. Здесь во всем, как и в характере хозяина, чувствовалось смешение нового и старины: чего стоят собственная электростанция при усадьбе и толстый, бородатый кучер в русском кафтане на тройке перед крыльцом. Старообрядческие иконы, развешанные на стенах особняка, соседствовали с полотнами Поля Гогена и Клода Моне, лучшие французские вина стояли на одном столе с необъятных размеров русским самоваром.
В зимнем саду его особняка была собрана не самая большая, но, пожалуй, одна из самых интересных в России коллекций картин. Подлинный ценитель искусства, Михаил Абрамович сразу же разглядел выдающийся талант недавно умершего Гогена и купил в Париже четыре его картины. Знаменитый художник Константин Коровин, дававший Морозову уроки рисования, вспоминал о «смотринах» произведений одного из главных представителей постимпрессионизма:
«Привез Михаил Абрамович картины в Москву. Обед закатил. Чуть не все именитое купечество созвал.
Картины Гогена висят на стене в столовой. Хозяин, сияя, показывает их гостям, объясняет: вот, мол, художник какой, для искусства уехал на край света. Кругом огнедышащие горы, народ гольем ходит… Жара…
– Это вам не березы!.. Люди там – как бронза.
– Что ж, – заметил один из гостей, – смотреть, конечно, чудно. Но на нашу березу тоже обижаться грех. Чем же березовая настойка у нас плоха? Скажу правду, после таких картин как кого, а меня на березовую тянет.
– Скажите на милость! – воскликнул Михаил Абрамович. – Мне и Олимпыч, метрдотель, говорил: „Как вы повесили эти картины, вина втрое выходит“. Вот ведь какая история! Искусство-то действует…»
Михаил Абрамович Морозов, несмотря на все его причуды, был человеком очень жизнерадостным и колоритным: огромного роста, неуемной энергии, пил и ел без меры, зная, что тем самым просто губит себя – еще в детстве он перенес скарлатину с осложнением на почки и сердце. Ему следовало бы беречь свое здоровье, но, по воспоминаниям близких, Михаил Абрамович будто нарочно делал именно то, что для почек и сердца губительно. «Когда доктора у него уже определили нефрит, он каждый день пил водку и закусывал ее сырым мясом с перцем. На это было ужасно смотреть!» – сокрушалась впоследствии его супруга Маргарита Кирилловна Мамонтова. Умер Михаил Абрамович в 1903 году в возрасте тридцати трех лет. После его смерти, в соответствии с завещанием, 60 картин были переданы Маргаритой Кирилловной в Третьяковскую галерею. А после революции 1917 года великолепное собрание западной и русской живописи, икон и скульптур Морозова было перевезено в ГМИИ имени А. С. Пушкина и Эрмитаж.
От брака с Маргаритой Кирилловной Мамонтовой (1873 – 1958) у Михаила Морозова было четверо детей: Юрий, Михаил, Елена и Мария. Младший сын Михаил (1897 – 1952), позировавший В. Серову для портрета «Мика Морозов», стал известным советским шекспироведом. Юрий – морской офицер – пропал без вести во время Гражданской войны. Обе дочери, Елена и Мария, эмигрировали.
Средний брат ИВАН АБРАМОВИЧ МОРОЗОВ – самый «правильный» из сыновей, он стал единственным настоящим помощником матери в семейном бизнесе.
Окончив Цюрихский политехникум, он жил в Твери, где являлся директором-распорядителем Тверской мануфактуры. Именно благодаря упорству и предприимчивости Ивана Абрамовича, капитал семейного предприятия Морозовых в 1904 – 1916 годах увеличился в три раза. Особенно большую прибыль фабрики Морозовых получили во время Первой мировой войны, когда выполняли государственные заказы на сукно и полотно для воюющей армии.
Иван Морозов не ограничивал свою деятельность одной только текстильной промышленностью. Он был председателем правления Мугреевско-Спировского лесопромышленного товарищества, образованного в 1908 году, входил в число учредителей Российского акционерного общества «Коксобензол», Московского банка братьев Рябушинских, а также продолжал филантропические традиции семьи.
В 1899 году Иван Абрамович переехал из Твери в Москву, где обзавелся собственным домом. У вдовы своего дяди Давида Абрамовича Морозова он купил старинную дворянскую усадьбу на Пречистенке – одну из немногих, которым посчастливилось сохраниться после опустошительного пожара 1812 года. Молодой, богатый фабрикант очень быстро стал известен в светских кругах Москвы. На его знаменитых званых обедах, приватных вечерах и завтраках собиралось не меньше известных людей, чем у старшего брата Михаила Морозова, в чьем доме Иван познакомился со многими литераторами, артистами и художниками. Часто бывая в окружении людей искусства, Иван Абрамович очень скоро подпадает под влияние своих новых друзей и начинает интересовался живописью. Именно тогда он знакомится с великим коллекционером, любителем и знатоком искусства Сергеем Щукиным, чья картинная галерея западноевропейской живописи производит на Ивана Абрамовича неизгладимое впечатление. Огромную роль в его решении заняться коллекционированием сыграла и дружба с известными русскими художниками Коровиным, Серовым, Васнецовым. Начало собственной коллекции Ивана Абрамовича положила покупка полотен русских пейзажистов, а в 1903 году он приобрел холст Альфреда Сислея «Мороз в Лувесьенне», с которого началось собрание шедевров западноевропейской живописи, ставшее вскоре одним из самых крупных в России.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
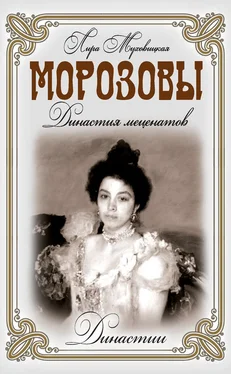
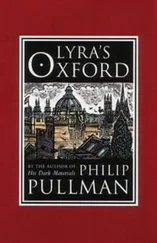


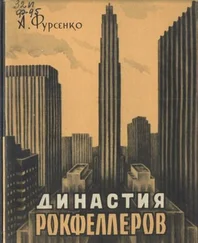
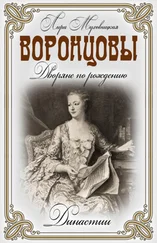
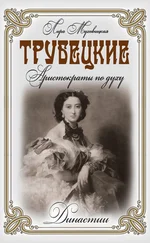
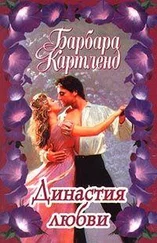
![Андрэ Нортон - Зов Лиры [Руки Лира]](/books/338145/andre-norton-zov-liry-ruki-lira-thumb.webp)