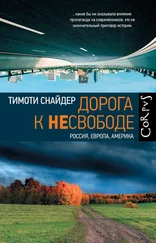У местных полицаев на службе у немцев в оккупированной Советской Украине или Беларуси было мало власти или вовсе ее не было внутри самих режимов. Не были они и на самом дне иерархии: евреи были ниже их, конечно, как и те люди, которые не были полицаями. Однако их позиция была достаточно низкой и их поведение требует меньше (а не больше) объяснений, чем поведение эсэсовцев, членов партии, солдат и полицейских. Этот тип местной коллаборации точно так же предсказуем (возможно, даже более предсказуем), как повиновение властям. Для немцев, отказывавшихся расстреливать евреев, серьезных последствий не бывало. Местные же, которые решили не идти в полицаи, либо те, кто выбирал для себя уход из полиции, наоборот, шли на риск, который был неведом немцам: голод, депортации и подневольный труд. Советский военнопленный, принявший немецкое предложение о коллаборации, мог избежать голодной смерти. Советский крестьянин, работающий полицаем, знал, что сможет остаться дома, собрать урожай и что его семья не будет голодать. Это был отрицательный оппортунизм – надежда избежать для себя гораздо худшей доли. Еврейские полицейские в гетто – это пример крайнего варианта негативного оппортунизма, даже если в конечном счете сделанный ими выбор не спас никого, в том числе их самих.
Дать определение категории «коллаборанта» внутри советской системы сложнее. В отличие от немцев, советский режим уничтожил значительно больше мирного населения в мирное время, чем за время войны, и обычно не оккупировал территорию долгое время без того, чтобы аннексировать ее в состав Советского Союза или же дать ей формальную независимость. Вместе с тем, внутри Советского Союза определенная политика преподносилась в качестве кампании или борьбы. В этой атмосфере, например, активистов украинской Коммунистической партии заставляли морить голодом собственных сограждан. Независимо от того, называть ли реквизирование продовольствия у голодающих «коллaборантством» или нет, – это был яркий пример того, как режим добивался сотрудничества в деле политики, в ходе которой сосед убивал соседа. Смерть от голода – ужасная, жестокая и долгая, а партийным активистам и местному начальству доводилось наблюдать смерти людей, которых они знали, и быть причиной этих смертей. Арендт считала голод вследствие коллективизации инаугурацией моральной изоляции, когда люди оказывались беспомощными перед могуществом современного государства. Как догадывался Лешек Колаковски, это была только половина правды. Вовлеченность практически каждого в голодомор (в качестве тех, кто отбирал продовольствие, или тех, кто его потом поглощал), создала «новый вид морального единства» [774].
Если бы люди служили режиму только исходя из собственных предыдущих идеологических предпочтений, коллаборации было бы мало. Большинство нацистских коллаборантов на «кровавых землях» получили образование в Советском Союзе. На восток от линии Молотова-Риббентропа, где национальная независимость поддалась сначала советскому и только затем – немецкому правлению, некоторые люди сотрудничали с немцами, потому что до этого уже сотрудничали с советским режимом. Когда советская оккупация сменилась немецкой, тот, кто был советским милиционером, стал полицаем на службе у немцев. Местные жители, которые сотрудничали с советским режимом в 1939–1941 годах, знали, что могут очиститься в глазах нацистов, если будут уничтожать евреев. Некоторые украинские националисты-партизаны ранее служили и немцам, и советской власти. В Беларуси часто простой случай определял, кто из молодежи уйдет в советские партизаны, а кто станет немецким полицаем. Бывшие советские солдаты, которым внушили идеи коммунизма, работали в немецких лагерях смерти. Исполнители Холокоста, которым внушили идеи расизма, шли в советские партизаны.
Идеологии искушают и тех, кто их отвергает. Идеология, лишенная своих политических или экономических связей по прошествии времени или из-за отсутствия горячей поддержки, становится морализаторствующей формой объяснения массового уничтожения, которая комфортно отделяет объясняющих от убийц. Удобно считать преступником того, кто является носителем неправильной идеи и именно поэтому отличается от других. Весьма утешительно было бы игнорировать важность экономики и осложнения политики – факторы, которые могли на самом деле быть общими для исторических преступников и для тех, кто позже наблюдал со стороны за их действиями. Значительно привлекательнее, по крайней мере, сегодня на Западе, идентифицировать себя с жертвами, чем понять исторический контекст, в котором они находились вместе с преступниками и сторонними наблюдателями на «кровавых землях». Идентифицирование себя с жертвами подтверждает радикальное размежевание с преступниками. Охранник в Треблинке, запускавший мотор, или офицер НКВД, нажимавший на курок, – это не я, это он убивал таких, как я. Однако не ясно, умножает ли познания эта идентификация себя с жертвами и является ли этот вид отстранения себя от убийц этической установкой. Отнюдь не очевидно, что редуцирование истории до театральных пьес «моралите» делает хоть кого-нибудь более моральным.
Читать дальше


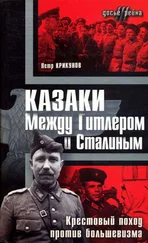

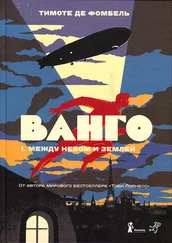
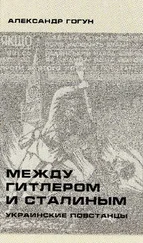

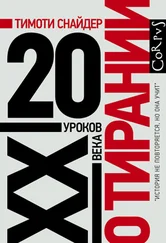
![Тимоти Снайдер - Дорога к несвободе. Россия, Европа, Америка [litres]](/books/431150/timoti-snajder-doroga-k-nesvobode-rossiya-evropa-thumb.webp)