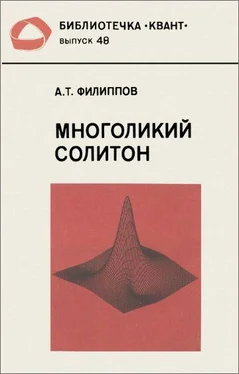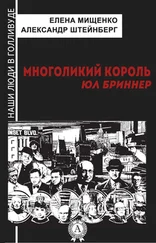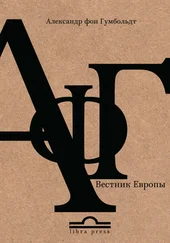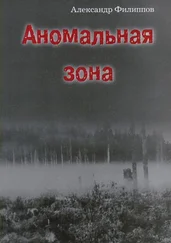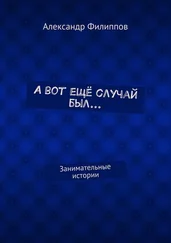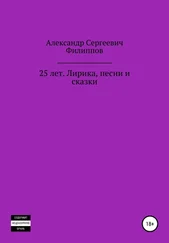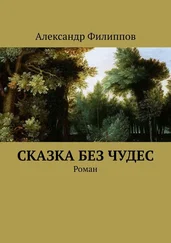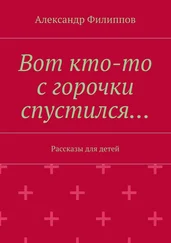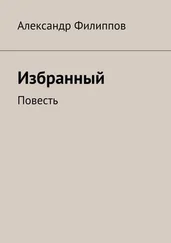*) Подобно Эйлеру и Гауссу он охватывал своими работами почти все основные направления в современной ему математике и физике. Будучи профессором Сорбонны, с 1881 г. до своей преждевременной смерти он каждый год читал лекции по новому предмету!
Иной была судьба Леоте. Связь его исследования с идеями Пуанкаре не была замечена ни самим Леоте, ни Пуанкаре, ни кем-либо другим, а статья Леоте была полностью забыта. Другие его труды по теории машин и механизмов, по различным приложениям математического анализа были высоко оценены, и он стал с 1890 г. членом Парижской академии наук. Но эта работа пребывала в забвении, пока о ней не вспомнил замечательный советский физик Александр Александрович Андронов (1901—1952). Он был учеником Леонида Исааковича Мандельштама (1879—1944) и под его влиянием занялся проблемами нелинейных колебаний. Еще будучи аспирантом Мандельштама, он «открыл» для себя труды Пуанкаре и сразу понял, что разработанный в них математический язык наиболее подходит для решения увлекших его проблем. Мандельштам эту идею чрезвычайно одобрил и поддержал, и в результате выросло целое направление, в дальнейшем детально разработанное уже Андроновым и его учениками (в особенности надо упомянуть А. А. Витта) и обогатившее не только физику и технику, но и саму качественную теорию дифференциальных уравнений. Как говорил Пуанкаре: «Физика не может обойтись без математики, которая представляет ей единственный язык, на котором она может говорить.

Отсюда взаимные и беспрестанные услуги, которые оказывают друг другу чистый анализ и физика. Замечательная вещь — работы аналитиков — были тем более плодотворны для физиков, чем более культивировались исключительно ради своей красоты. Взамен физика, ставя новые задачи, была столь же полезна математикам, как модель для художника».
Хотя эти слова замечательно точно и ясно описывают связь математики с физикой вообще и теории колебаний с теорией дифференциальных уравнений в частности, все-таки сразу видно, что они сказаны математиком. Физик никогда не согласится даже сравнить свою науку с моделью для математики, наоборот, он будет говорить о математических моделях тех или иных сложных физических явлений. Наиболее важная часть работы физика — найти подходящую математическую модель, описывающую наиболее важные черты исследованного физического явления. Следующий этап — изучение модели — по характеру более близок к работе «чистого» математика. Но и здесь физик остается физиком. Пути решения математических задач ему часто подсказывает физическая интуиция, а постановка этих задач просто «диктуется» физикой. Не математическая красота, а желание как можно точнее и глубже понять реальные физические явления определяет для физики и само представление о том, что значит решить математическую задачу. Так что афоризм Пуанкаре — это «правда, только правда, ничего кроме правды», но не «вся правда».
Чтобы не забывать об этом, приведем слова Л. И. Мандельштама о связи физики с математикой в теории колебаний: «Конечно, поскольку вы имеете дело с уравнениями, главным образом дифференциальными, то с некоторой точки зрения все это — математика. Но не в этом главное. Прежде всего потому, что именно физика учит нас, как допрашивать дифференциальные уравнения. В теории колебаний математический образ... имеет чрезвычайно наглядное, не только геометрическое, но и физическое содержание. Иначе говоря, в подкрепление к анализу вы здесь имеете не только геометрическую, но и физическую интуицию. Причем эта наглядность и интуиция может быть весьма разветвленной и богатой и может опираться на радиотехнический, электротехнический, оптический и тому подобный материал».
До сих пор мы говорили в основном о качественных методах изучения нелинейных колебаний. Однако качественное исследование решает половину задачи, да к тому же оно и не всегда возможно. Для физики, астрономии, механики этого мало — необходимо уметь рассчитывать движения системы, производить вычисления. Сегодня в этом очень помогают ЭВМ, но даже и они далеко не всегда могут справиться со сложными задачами, возникающими при изучении реальных систем.
Методы расчета движений сложных систем начали разрабатываться в XVIII в. и предназначались главным образом для вычисления планетных орбит. Если пренебречь притяжением планет друг к другу, а учитывать лишь их притяжение к Солнцу, то задача решается легко. Однако если попытаться рассчитать, скажем, движение Луны, то сразу обнаружится, что сделать это чрезвычайно трудно — нужно учитывать силы, действующие между тремя телами — Солнцем, Землей и Луной.
Читать дальше