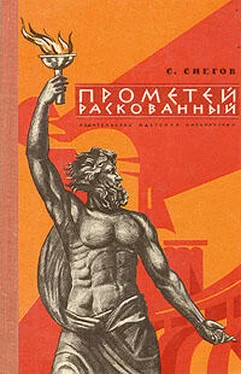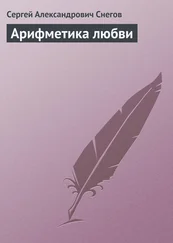— Пока стою на ногах… Отец пятнадцатого декабря скончался… Мама тоже плоха, говорит, что до весны не дотянет. Ты к нам?
— К вам.
И, шагая с Барановым под руку — так было легче, — Панасюк рассказал, что Флеров начинает кампанию за возврат к работам с ураном: написал Кафтанову, недавно выступал перед академиками в Казани, теперь просит проверить, в целости ли материалы и приборы.
— И ради этого потащился в такую даль? Куда ваши богатства денутся? Постоим на этом углу, и иди назад. Я скажу Павлу Павловичу, что ядерное оборудование может понадобиться. Не беспокойся, у нас ничто не пропадает. Нормально работаем.
Панасюк понимал, что слово «нормально» отнюдь не означает «как до войны». В институте осталось полтора десятка научных работников, человек тридцать технического состава. Но исследования не прекращались. Останавливались трамваи, прекращалась подача электроэнергии, тепла, пара, многие заводы распускали рабочих, забивали ворота — Физтех работал. В институте совершенствовали средства борьбы с врагом: разрабатывали новые приборы, конструкции, материалы — все, что требовал фронт.
Дальше Баранов пошел один. В лаборатории Алиханова, опустевшей, промерзшей — в углах поблескивал лед, — он достал из стола бумагу и карандаш и направился в «жилой флигель» докладывать Кобеко, как выполняется полученное недавно задание.
Жилым этот флигель назывался потому, что только эта небольшая часть громадного здания отапливалась. Кобеко, заменивший Иоффе, получил разрешение разобрать на дрова оставленный жильцами деревянный дом неподалеку. Сперва пытались добыть топливо собственными руками, но на разборку бревен не хватало сил. На помощь из 12-го танкового полка пришла машина, развалила строение, танкисты помогли перенести бревна и доски — в печах запылал огонь. Наталья Шишмарева, перетащившая на санках в Физтех библиотеку института Химфизики, радовалась больше всех: и на спасенные книги химфизиков, и на свои библиотечные шкафы уже поглядывали тоскливыми глазами замерзающие люди — оставшиеся сотрудники Физтеха почти все покинули свои квартиры и семьями переселились в институт.
В бывшей квартире Александрова пылала плита, на плите стояли чаны и реторты со змеевиками и охладителями. Кухня напоминала лабораторию алхимика. На складе обнаружили бочки с олифой. Кобеко придумал извлекать из нее пригодное в пищу льняное масло. Главный алхимик, его жена Софья Владимировна, строго вела «режим максимальной выгонки».
Когда Баранов вошел в «алхимическую», к институту подъехал Кобеко на велосипеде. Старенький, обшарпанный, погнувшийся велосипед был единственным механическим средством передвижения в Физтехе. На этой «лошадке» Кобеко ездил в Смольный, на заводы, на передовую, на Ладогу — во многих местах нуждались в физиках, их руководитель, единственный, сохранял относительную мобильность.
— Граммов по двадцати масла завтра выдадим каждому, — порадовал Баранова Кобеко, удостоверившись, что перегонка идет хорошо. — Идемте ко мне. Как задание, Сергей Александрович?
Баранов показал, что сделал.
— Сегодня в институте не задерживайтесь, — посоветовал Кобеко. — Ведь вам шагать через весь город, а ветерок из вредных.
Баранов ушел к себе. Кобеко занялся сборкой «прогибографа». На полу стояла металлическая тумба, выломанная из ограды Политехнического института, на столе лежали метеорологические самописцы, стальные прутья и проволока — все это были составные части нового прибора. Недавно у физиков попросили срочной помощи. На «Дороге жизни» по Ладоге стали проваливаться под лед автомашины. Аварии были загадочны — на дно уходили чаще других не тяжело груженные машины с востока, а машины из Ленинграда, вывозившие людей. Наблюдения показали, что авариям предшествуют колебания ледовой поверхности. Движение машин вызывало раскачку льда: на какую-то пока неизвестную скорость лед резонировал особенно сильно. Нужно было найти эту опасную скорость. Кобеко дал идею самописца, регистрирующего колебания льда. Рейнов придумал конструкцию. Рейнов сейчас работал в Комиссии по реализации оборонных изобретений и жил в Смольном. Кобеко, тоже член этой комиссии, частенько туда наведывался; прогибограф разрабатывался сообща.
В комнату вошла дочь Иоффе, Валентина Абрамовна. Высокая, похудевшая, сохранившая всю свою «довоенную» порывистость, она недовольно потянула носом воздух. Кобеко не расставался с трубкой, но теперь из нее несло не прежним тонким ароматом «Золотого руна», а каким-то зловонием. Рассмеявшись, он положил трубку в карман — ничего не поделаешь, трудности, примешиваем к табаку сухие листья и даже солому.
Читать дальше