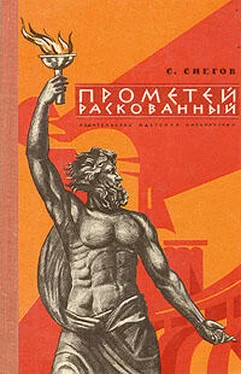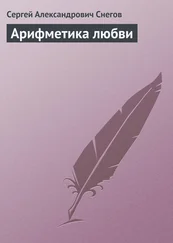И, беседуя с бывшим руководителем, Флеров со смятением вдруг убедился, что надежд на возвращение Курчатова к ядру нет. Все казалось в нем неожиданным и незнакомым — и так менявшая лицо окладистая черная борода, и ласковое участие, с которым он слушал рассказ ученика о вызове в Москву, и спокойствие, почти равнодушие, с каким отклонил страстное обращение вновь вернуться к ядру. И если бы он рассердился на ученика, столь неделикатно намекнувшего на совершенную ошибку, если бы гневно выговорил, что во время войны имеются и важней проблемы, чем исследования, сулящие успех лишь в далекой перспективе, Флерову стало бы ясней душевное состояние учителя. Но Курчатов только сказал:
— Я рад, что вы займетесь ураном, Георгий Николаевич. Понадобится моя помощь, приходите.
В вежливых словах было сочувствие, искреннее желание при нужде помочь. В них не было лишь стремления властно вмешаться… Именно о таком стремлении, о властной руке учителя мечтал ученик.
Флеров переходил от радости к отчаянию: радовался, что вернулся к любимому делу, отчаивался, что любимое дело не налаживается. Ему отвели помещение в этнографическом музее. Под чучелами — иные были так громоздки, что не отодвинуть, — он установил скудную аппаратуру. Каждый прибор, каждый метр провода, каждый реостат и выпрямитель выпрашивался — любая вещь, даже стул не давался, а одалживался. В унынии физик-одиночка твердил себе, что все переменится, когда выйдет правительственное постановление. Стараясь сохранить бодрость, он извещал Панасюка: «Наконец-то пишу тебе из Казани. Приехал сюда несколько дней назад. Начинаю работу, правда не в том масштабе, как я писал тебе из Москвы… Постановления… достаточно авторитетных организаций о начале работ еще нет… Виделся с Игорем Васильевичем. Работа в основном будет разворачиваться в том же направлении, что и до войны. Поэтому очень будут нужны все радиотехнические детали: лампы, лабораторные мелочи… Упаковывать придется отдельно: вещи очень важные — уран, ионизационную камеру».
В музей пришел Петржак. Приехав в Казань до Флерова, он получил в Радиевом институте оборонное задание. Он со смехом рассказывал, как ошеломила его начальство неожиданная бумага из Москвы. Командир части накинулся: «Говори прямо, кто ты?» — «Лейтенант Петржак, товарищ майор!» — «Врешь, не так отвечаешь! Сам знаю, что лейтенант. В штатском ты кто?» — «Научный работник». Командир, подписывая отпускную, ворчал: «Ученый! И, видать, не малый — замнаркома твоей особой интересуется. А материшься ядреней матроса!»
— Что делать? — с тоской спросил Флеров. — До постановления правительства ядерщиков собирать воедино не будут. Чем сейчас заниматься? Мелочи какие-то, стоящего эксперимента не наладить!..
— Волга начинается с ручейка, — мудро напомнил друг.
— А от ручейка до устья — три тысячи шестьсот километров! Сколько же ждать, пока хлынет настоящий поток? Я полечу в Ленинград собирать материалы и оборудование.
Он пошел к Иоффе с просьбой о командировке. Иоффе связался с Кафтановым, командировку разрешили. Флеров вылетел в Ленинград.
3. В голоде и холоде — под бомбами
Игоря Панасюка с началом войны определили обслуживать передвижную рентгеновскую установку — разъезжать в крытой машине по госпиталям Ленинградского фронта. Когда установка возвращалась в город, Панасюк шел в Физтех — узнать, как дела в институте. Сегодня он направился туда же, но, отойдя от дома, почувствовал, что прогулка не по силам.
День был морозный, мела позёмка. По улицам, с начала зимы не чищенным от снега, в обледенелых ухабах, рытвинах и валах нельзя было просто шагать, их надо было преодолевать. А сил не хватало и на ровную ходьбу. Панасюк недавно — любопытства ради — взвешивался, потеря веса за последние три месяца была поменьше, чем он страшился, но все же больше двадцати килограммов. Особенно трудно одолевались перекрестки: здесь злая позёмка становилась чуть ли не штормовым ветром, надо было постоять, набираясь духу, а потом лишь решаться на переход.
На одном из перекрестков Панасюк нагнал мужчину, отдыхавшего у столба. Мужчина слабым голосом позвал:
— Игорь, ты? Пойдем вместе.
Это был Сергей Баранов, алихановец. Все изменились в дни голода, многих, сильно опухших, было не узнать, но Баранов, здоровяк, альпинист, лишь похудел и посерел. Он же так смотрел, словно не верил, Панасюк ли это. Баранов был из тех, кто отказался эвакуироваться и продолжал работать в Физтехе. Панасюк спросил, как зимуется, как бедуется.
Читать дальше