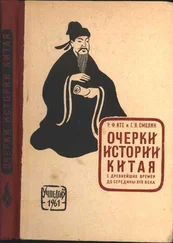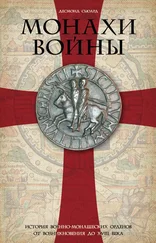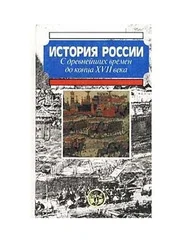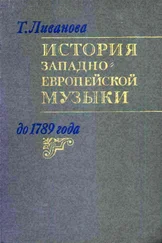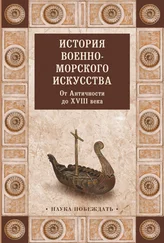Но основным критерием является по-прежнему проблема движения. «Математические предметы чужды движению»,— постоянно подчеркивает Аристотель. «...Откуда получится движение, когда в основе лежат только предел и беспредельное, нечетное и четное...?»— задает он вопрос 123 . В не меньшей степени чужды движению платоновские идеи, эти умопостигаемые числа. «В «Федоне»,—говорит Аристотель,— высказывается та мысль, что идеи являются причинами и для бытия и для возникновения <���вещей>; и, однако же, при наличии идей вещи, <���им> причастные, все же не возникают, если нет того, что произведет движение...» 12 \ Либо сами идеи должны двигаться, что противоречит их определению, либо останется неясным, откуда же появилось движение: «в таком случае все исследование природы оказывается упраздненным» 125 . Мы могли бы привести огромное число подобных высказываний 12в , где Аристотель критикует понятие идеи именно за то, что оно не способно справиться с проблемой движения. Но, с другой стороны, замечает тут же Аристотель, ни состояние, ни движение, ни отношение не могут быть определениями сущности, потому что они всегда суть состояния, движения, отношения чего-то, что испытывает состояние, участвует в движении, находится в отношении: «ведь мы познаем все вещи постольку, поскольку они некоторым образом представляют одно и то же и поскольку существует что-нибудь всеобщее» 127 .
Итак, когда мы пришли к необходимости преобразовать основную схему понятия, перед нами снова встает вопрос о способе отождествления предмета с самим собой в некотором процессе движения или в некоторой системе отношений. Математическая форма оказывается только особой идеализацией, предметом, рассмотренным постольку, поскольку в нем можно мысленно выделить математическую форму й изучить его не как таковой, а в том отношении, в каком он является, например, единым или кривым. «...Именно так будет обстоять дело и с геометрией. Если предметы, которые она изучает, имеют привходящее свойство — быть чувственными, но она изучает их не поскольку они — чувственные, в таком случае математические науки не будут науками о чувственных вещах, однако они не будут и науками о других существующих отдельно предметах за пределами этих вещей» 128 . Вот, следовательно, как у Аристотеля вводится в понятие предмета само отношение между понятием и предметом. Вещь сама по себе всегда включает в себя непрерывный и аморфный субстрат — непознаваемое 129 , который принимает в себя различные формоопределения в зависимости от того, в каком отношении мы его берем. Соответственно, в материи нет никаких реально существующих форм, плоскостей, линий, точек 13 °. Все это она только может принять в себя со стороны некоторого деятельного начала, подобно тому, как каменная глыба принимает форму Гермеса, предварительно, разумеется, не содержа ее в себе, или, точнее, содержа любую другую форму 131 . «...Самое последнее, <���что лежит у всего другого в основе), если его брать само по себе, не будет ни определенным по существу, ни определенным по количеству, ни чем бы то ни было . другим» 132 . Но вместе с тем материал не может быть началом определенности, не может быть, следовательно, определением сущности вещи. В той мере, в какой форма-понятие перестает отождествляться просто-напросто с истинным видом предмета, а определяется только как «сечение или предел», встает вопрос, что же такое предмет сам по себе, что входит в него помимо формы, определенной некоторым особенным его разрезом. Т. е. как говорит Аристотель, в чем «суть его бытия» 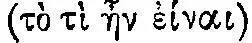 133 . В чем его истинность? Каковы его начала и причины?
133 . В чем его истинность? Каковы его начала и причины?
Какова же в таком случае для Аристотеля модель того «техне», искусства-мастерства, всеобщей формой которого является искусство мышления?
Мы помним, что внутренним противоречием доаристотелевского развития понятия идеальной формы, частично включая и атомистов, было то, что в нем результат полностью совпадает с началом, т. е. понятие-форма, подобно произведению классического греческого искусства, есть идеальное выражение своего предмета. Именно само произведение искусства, понятое как чистая схема формирования вообще, была для классической античности моделью также и теоретического понятия. Идеальная гармония и художественная пластичность космоса, чистая симметрия движения небесных тел, завершенный в себе образ логоса-закона, управляющего вечной сменой рождения и гибели,— все это идеалы «эйдетической» науки в ее классической форме, науки, которая стремилась увидеть в природе прежде всего совершенный и хорошо закругленный пластический образ. Статичная структура космоса (доведенная элеатами до логического конца) понималась как истина «фюсиса», и в блеске этого солнца выцветал и исчезал мир античной природы. Но «незнание движения влечет за собой незнание природы» 13 \ Аристотель должен был произвести радикальный пересмотр основных начал и исходных идеализации мышления, но в не меньшей степени он должен был изменить представление о самом предмете изучения, а также и представление о цели исследования. Присоединив к вечному и совершенному надлунному миру мир подлунный, изменчивый, гибнущий и рождающийся, Аристотель тем самым дал онтологический коррелят своей логической проблемы отношения между понятием и предметом и ввел проблему этого отношения в сам исследуемый предмет. Он разделил художника-мастера и произведение его творчества, результат и начало, деятельность ремесленников и самодеятельность демиурга, практическую опытность и теоретическое знание. Но он не упразднил идеал понятия как формы.
Читать дальше
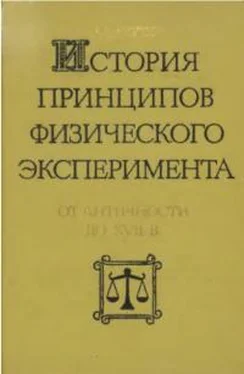
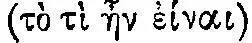 133 . В чем его истинность? Каковы его начала и причины?
133 . В чем его истинность? Каковы его начала и причины?