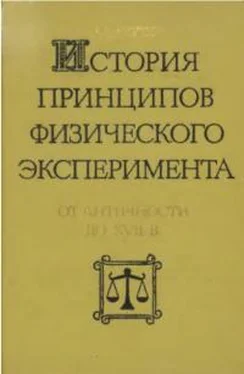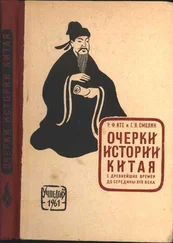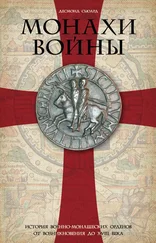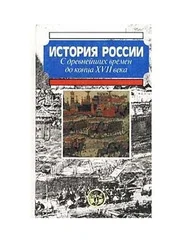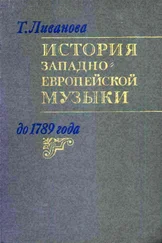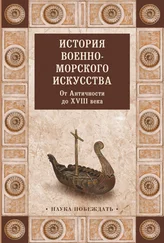Так, все наблюдают, что тела пролетают некоторое расстояние и падают на землю, будучи брошены под углом к горизонту. Но было бы бессмысленно спрашивать, почему это так, ибо само «это» нуждается в уточнении. При этом уточнении строго обрисовывается и в равной мере уточняется область, в которой скрыта таинственная причина. Например, выясняется, что формы падения камня на землю, баллистической кривой, планетной траектории могут быть получены из одного принципа (см., например, подход к этой всеобщей механике у самого Галилея (I, 334)). При этом нам не только не нужно искать каждый раз разные природы-сущности для качественно разных вещей, но даже разные формы движений должны иметь одну причину (динамический закон), и именно природа этой причины (сила) оказывается теперь конкретным источником физико-метафизической проблематики.
Такой способ теоретической физики — находить истинный предмет («что?») вопроса, заново отвечая в процессе мысленного экспериментирования на вопрос «как?»— можно проследить во всей истории современной физики. Например, теорию относительности Эйнштейна можно рассматривать в качестве объяснительной (отвечающей на вопрос «почему?»,— вопрос о силе) по отношению к ньютоновской механике потому, что она иначе определила сам предмет (структуру, пространства-времени («что?»)), заново конструируя его в мысленном эксперименте (исследуя, как, например, определить одновременность событий).
Именно эта «чтойность», если пользоваться схоластическим термином, механико-геометрической схемы, ее теоретико-предметная определенность (предмет-мысль) и послужила основанием для математического «реализма» Галилея и Декарта. Однако для Галилея эта «реальность» существовала во плоти и крови экспериментов, которые — будь они мысленные или реальные — дают как бы место и образ существования теоретическим понятиям. Для него любое понятие (импульс, инерциальное движение, «математическая» структура материи (см. Первый день «Бесед»)) всегда существовало в условиях демонстративного эксперимента, который давал ему необходимую предметность и наглядность. Поэтому Галилей гораздо отчетливее представлял себе структуру физического эксперимента, чем, например, Декарт. Для него было ясно, что ни сам по себе реальный предмет — темный и немой — не может ничего сказать этому понятию, ни сам по себе идеальный объект — геометрическая схема — не может быть отнесен к предмету.
В следующем разделе мы увидим, насколько далек был Галилей от распространившейся гораздо позже схемы, согласно которой теоретическая физика составляется из формально-математической теории, не содержащей внутри себя никакой предметности, и ее эмпирической проверки в процессе сопоставления этой теории с природой, знать не знающей ни о какой математике. Для Галилея, всю жизнь боровшегося с таким перипатетическим взглядом, эффективность математики в естественных науках не была непостижимым фактом.
Декарт, для которого основным было именно логическое обоснование новой науки, исходил из самой математики. Она была для него образцом науки, создаваемой «ясным и внимательным умом». Именно в математике Декарт находил сферу, в которой его метод мог реально осуществиться и приобрести объективный статус. Правда, это было связано с перестройкой всей традиционной системы математики. Но в результате субъективные определения декартовского метода — интуиция и дедукция — получали форму определений алгебраических действий с теоретическим объектом.
Для Галилея же геометро-механическая схема была пределом идеализации (изоляции) реального объекта. В этом взаимопорождающем движении предмета и метода связующим звеном было новое понятие движения и идея механизма. Эта идея имела не только смысл экспериментального посредника между чувственным существованием вещей и их математической сущностью, но также и смысл идеи, преобразующей весь мир математических предметов и саму практику математических искусств 82 .
Все своеобразие мысли Декарта — в этом взаимно-преобразующем движении механики и математики. Понять предмет — означает для Декарта понять его механизм, понять его как механизм. Однако теоретическая физика, которая исследует всеобщие определения физической реальности, т. е. имеет своим предметом всеобщую схему механизма, его закон, подвергает механизм дальнейшей идеализации, открывая в его основе геометрическую схему. Таким образом, характеристикой предметности вообще оказывается чисто геометрическое определение протяженности, а все, что реально в вещах, доступно только математике. «... По крайней мере,— замечает Декарт в «Шестом метафизическом размышлении»,— надо признать, что все, постигаемое мной в них (в вещах.— А. А.) ясно и отчетливо, и есть вообще все, составляющее объект чистой математики, действительно находится в них» 83 . В связи с этим и теоретическая физика мыслится Декартом как некая «всеобщая математика» — единая и методически развернутая теория всех «математических» наук 84 . Однако арифметика и главным образом геометрия, которые изучал Декарт, не только не удовлетворяли этому замыслу, но даже в собственных пределах не обладали методическим единством и никоим образом не составляли «цепь положений совершеннейшей очевидности». Традиционный способ геометрических рассуждений и доказательств представлялся Декарту искусством произвольных построений и случайных открытий. Благодаря наглядности, присущей геометрии, учителя многое открыли Декарту, «но почему это делалось так, а не иначе, и каким путем достигались подобные открытия, они не могли объяснить моему уму удовлетворительно» 85 .
Читать дальше