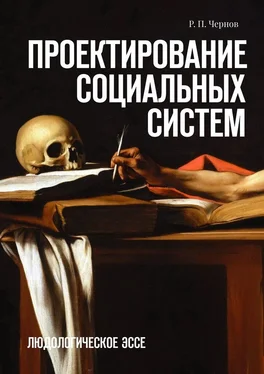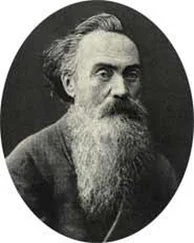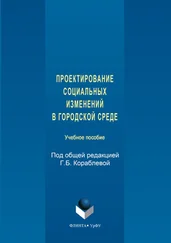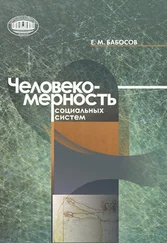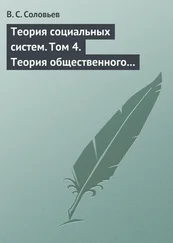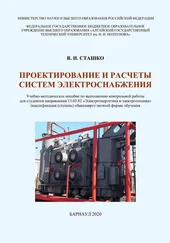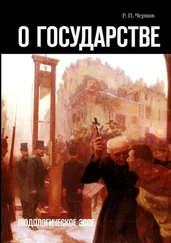Но на этом свойстве Христианства надо остановиться подробнее. Христианство в своей сути дает спасение в форме надежды и гарантии для того, кто верит, что он спасется. Именно этот тезис подвел церковь в новое время, когда жизнь телесная «здесь и сейчас» была признана самодостаточной. Ранее бытие человека было столь болезненно и столь беззащитно, что проще было создать догму о том, что жизнь «здесь и сейчас» – лишь испытание и переход в мир иной, который, как раз и является формой подлинной жизни. Даже фараоны начинали свое правление с подготовки перехода в этот мир- строительства пирамиды. Христианство давало надежду, позволяя преодолеть старый мир, при этом преодоление этого старого мира сводилось по сути к преодолению старой ритуальности и мифологии, к практике стабилизации хаоса социального бытия в возможности. Неслучайно ад у Данте – это место без надежды («оставь надежду всяк, сюда входящий»). Конструкция подобного рода представляет собой яркий пример правильной организации социальной системы, так как является абсолютным противовесом любому сомнению, в том числе и экзистенциальному (если я еще жив, значит, для чего-то нужен Богу, мое предназначение не исполнено до конца). Действительно, при наличии когнитивного сомнения перед личностью предстает мир, ограниченный представлениями о рождении (факт, эмпирически не установленный и не проверенный на собственном опыте субъектом рассуждения) и смерти (факт, который проверить не удастся – пока есть человек, нет смерти, когда приходит смерть – нет человека). Таким образом, знание о начале и конце жизни не относится к проверяемым эмпирически явлениям. И начало жизни, и конец являются парадигмами бытия, в которых превалирует целевая причина, то есть бытие в возможности. Данное бытие в возможности может быть по содержанию наполнено чем угодно, но по своей конструкции останется неизменным. Противоречие между идеальным и реальным в данных парадигмах не выражено паритетно, и не является антагонизмом по типу «реализуется – не реализуется». Желает или не желает субъект познания, но соотношение идеального и реального в данных парадигмах неизменно. В индивидуальном плане для познающего – это собственные воспоминания о прошлом, рассказы родителей, но никогда личная уверенность (в праве даже есть такой институт – тайна усыновления), в волевом моменте влияния индивидуума, разницы между смертью и рождением действительно нет (и там, и там без волевого участия). Познание смерти, опять же, происходит путем относительного проецирования смерти других. Но человеку свойственно предполагать в своих действиях бессмертие, именно поэтому любое теоретизирование на любую философскую тему начинается с осознания конечности своего существования. Логика постепенно трансформируется в логику абсурда и личности буквально не на что опереться при любом пролонгировании проникновения в парадигму бытия смерти. В некотором роде человеку здесь по – прежнему (помимо веры в Бога) остается только некоторая ритуальность бытия, продолжать которую можно до бесконечности. Христианство первым заметило, что рождение и смерть – это прежде всего бытие идеи, парадигмы этих явлений состоят в большей части из бытия в возможности. Следствием этого стала активная работа по наполнению данных парадигм конкретным содержанием для тех, кто ближе всех находится в коммуникации с ними (приговоренные к смертной казни преступники, умирающие по естественным причинам, тяжело больные, и прочее). При этом, в отличие от предшественников, Иешуа не выдвигал никаких материальных предпосылок к тому, что субъект мог присоединиться к сформированному им бытию в возможности после смерти. Единственным условием была вера в Бога, сопутствующие этому покаяние и обращение в веру. Таким образом, с точки зрения конкуренции культов Христианство так же выигрывало, давая взамен только одно – форму, которую наполняла надежда самого верующего. Надежда уходит последней, христианство – тот механизм опознавания реальности, при котором, чтобы ни случалось, надежда не уходит никогда, превращаясь в элемент движущей причины парадигмы бытия верующего. Подъем эмоциональности субъекта обеспечивается за счет природы бытия в возможности, ибо надежда, как таковая, есть ничто иное, как противоречие по бытию в возможности к тому бытию в возможности, которое является результатом познания бытия в действительности, которое субъектом не приемлемо, является противоречием к нему, как материальному субстрату, объекту материального мира. При этом сама действительность, чем сильнее она давит на такого субъекта, тем сильнее бытие в возможности, составляющее его противоречие (представления христианства). При том, как зарождалось христианство -смерть, как личный пример и как действительно путь к лучшему, к свободе – воскресение, – то смерть является избавлением и освобождением, но только для тех, кто уверовал и приобщился к Христу, прочим же (и опять специальный запрет на самоубийство) – нет надежды на спасение и на избавление, а только адские муки вечные. Надежда, как естественное противоречие бытия в действительности, продуцируемое бытием в возможности, подтверждается многократно самой организацией христианства, а в дальнейшем и церковью как организацией, во многом превосходившей государство. Таким образом, Бог христиан является продуктом естества человека, формой, которая развивает и усиливает природные, исходно заданные свойственности человеческого вида: мысль, как форму бытия, надежду, как личное противоречие бытия в возможности, любовь, как базисную положительную эмоцию. Структурирование надежды в субъективном плане тесно связано и с областью зазора бытия в возможности и с областью любви – и там, и там это бытие в возможности (надежда) является сопутствующим фактором. В системе религий того времени, требовавших подчинения правилам и устоям, которые во многом уже были устаревшими или не применимыми к области действительного (не снимали социальные противоречия) христианство, регулировавшее исключительно область бытия в возможности, абсолютно не требовательное к культу (вино – кровь, хлеб – плоть в католицизме, например) было однозначно жизнеспособнее, так как не ставило себе, помимо всего прочего, политические цели. Христианство преследовало только одну цель – дать счастье и успокоение обычному, точнее, любому человеку. Все отвергнутые, проклятые, забытые, решительно все могли приобрести внутреннее спокойствие, получить то, что не дает ни одна власть, никакие деньги. При этом не забудем и о том, что основанием этого было управление бытием в возможности приобщающейся к религии личности.
Читать дальше