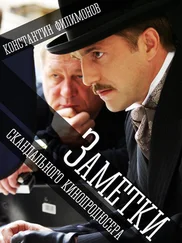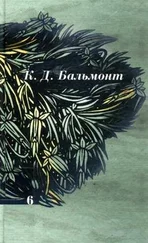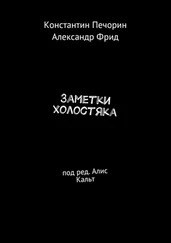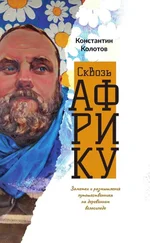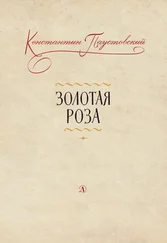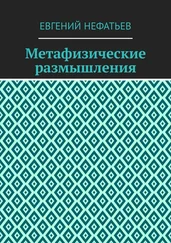Vb
Все, что с нами происходит, оставляет в нас свой след, но это не значит, что память об этом сопутствует нам постоянно. Даже наше имя, социальная роль и все прочее, что связано с нашей личностью и напоминает о себе ежедневно на протяжении многих лет, не присутствует в нашем сознании в каждый миг его существования. Ощущение «я» — присутствует. То, что не присуще нам всегда, — это не мы, а лишь наши отношения с внешним миром (т. е. явления, а не сущность). Только «я» выражает нашу истинную суть, имеющую субстанциальное бытие. Соответственно, элементы опыта не «прилипают» к нам навсегда, не становятся в буквальном смысле частью «я», скорее, они сообщают ему свой импульс, и в этом заключено их главное значение.
Говоря языком «Бхагавадгиты», «я» не грязнится получаемым опытом, словно листья лотоса, которые не намокают в воде. Вместе с тем «я» — это не безучастный «свидетель» из брахманистских учений, отрешенно созерцающий явления сознания и внешнего мира. Все хорошее и плохое, что случается с нами, вносит свои коррективы в траекторию развития нашего «я», которые накладываются на его ранее существовавшие «установки». Мы стремимся дистанцироваться от плохого (того опыта, который приносит нам страдания) и хотим удержать в поле своего сознания хорошее, но и в том и в другом случае мы фактически ориентируемся не на сами явления, а на тот эффект, который они в нас произвели. Этот эффект нельзя изменить, да и не нужно, поскольку это нарушило бы целостность и полноту «я». Изменения произойдут в дальнейшем сами — как результат нового опыта, который не сотрет влияние прежнего, но обогатит его и усложнит. При этом непосредственное содержание опыта, выполнив свою основную функцию, отойдет на второй план. Оно не канет в небытие (прошлое не исчезает; в соответствии с тем, что говорилось выше, оно обладает реальным и неизменным существованием), но утратит для «я» свою актуальность.
Само деление элементов опыта на «хорошие» и «плохие» выражает не столько свойства опыта, сколько внутренние установки «я». Получается, что мы не только понапрасну терзаемся беспокойством, цепляясь за явления прошлого, превратившиеся в пустые оболочки полученного и специфически усвоенного нами опыта, но и придаем этим явлениям ценностную окраску, которой они на самом деле не обладают. Впрочем, в нашем положении такие «ложные» реакции практически неизбежны. В этом мы не отличаемся от лабораторной крысы, получающей удар электрическим током всякий раз, когда загорается лампочка, и в итоге реагирующей именно на включение лампочки, которое само по себе не представляет для нее никакой угрозы. С известной точки зрения человек не умнее крысы — все равны перед законами этого мира. Об этих законах мы еще поговорим позже, а пока продолжим рассмотрение отдельных аспектов того, как «я» воспринимает человеческий опыт.
Чрезмерно аффектированное восприятие содержания опыта порождается неизбежным для нас ложным отождествлением «я» с «не-я». Особенно остро оно проявляется, когда опыт трактуется как негативный. Душевное страдание может свести с ума, а физическое — вызвать смерть от болевого шока, тем не менее и первое, и второе следует считать иллюзорным в том смысле, что испытывающее его «я» не терпит ущерба. Оно само дает страданию энергию, в результате чего нарушается его контакт с «не-я» — прежде всего, с личностью и телом человека, выполняющими роль моста, соединяющего «я» с «не-я». Разрыв связей с «не-я» воспринимается как уничтожение «я» (воспринимается, разумеется, самим «я»), что обусловлено привычкой к определенной форме существования (в нашем случае — человеческой).
Нечто подобное происходит в известном психологическом эксперименте, реализованном в различных вариантах. К примеру, испытуемый сидит за столом, положив руки на столешницу, при этом одна его рука скрыта ширмой, а рядом с ней по другую сторону ширмы подложен ее муляж. После нескольких легких прикосновений к спрятанной настоящей руке (которые испытуемый ощущает, но не видит) и синхронизированных с ними касаний искусственной руки (происходящих в поле зрения испытуемого) по искусственной руке наносят резкий удар молотком. Испытуемый в этот момент, как правило, переживает испуг и рефлекторно отдергивает руку, спрятанную за ширмой, поскольку его ум успел отождествить свои ощущения с воздействиями на руку-муляж.
В описанном эксперименте его участник испытывает ложную тревогу по поводу того, что очевидным образом принадлежит к сфере «не-я». В случае с нашим телом и нашей личностью иллюзия их тождественности с «я», конечно, более реалистична и живуча. В немалой степени этому способствует бесспорный факт: то, что разрушает наше тело или личность, действительно заставляет нас страдать. Но что такое страдание и чем оно для нас опасно?
Читать дальше