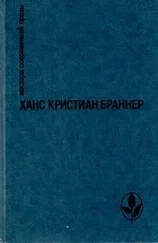И будет все покинуто в ту пору,
Навеки воцарится разделенье
небесной тиши с тишью песьих будок
и пустошами светопреставленья.
Ища спасенья, хлынут птичьи стаи.
И встанет день над землями глухими
зрачков умалишенного безгласней
и зверя начеку невозмутимей.
В первый раз, когда я читал «Апокриф», меня мгновенно поразило предложение, где, казалось, происходит эпифания, – настолько яркий свет оно проливало на послевоенный период, который я попытался вновь привести к настоящему и продумать внутри этой книги: «Вы видите морщины одряхленья [201]?» Преходящесть (transience), верил я до сей поры, не имеет морщин. Это переход такой быстрый и простой, что он не оставляет места – или, точнее, «времени» – ни для чего, кроме самого себя, то есть (еще и вновь) преходящести. Преходящесть с морщиной, понял я теперь, – это специфическое настоящее – настоящее хронотопа прогресса, когда прогресс начинает замедляться и производить боль: «Знакомо ли вам рук моих бессилье? / Вы понимаете, что значит сирость? / Какая боль по колее изрытой / волочит перепончатые лапы / и в кровь растрескавшиеся копыта?» Будущее – немо, настоящее – «морщина», поэтому прошлое застывает, каменеет, становится тяжелым и не хочет оставаться позади, там, где ему и место; поэтому все, что оставалось неисполненным, выступает на первый план, ретроспективно и агрессивно:
Наступит вечер, ночь на мне, как слякоть,
закаменеет, но, смыкая веки,
я воскрешу весь этот путь и эти
пылающие тоненькие ветки.
По листику я соберу ту рощу,
горячий отсвет канувшего рая.
Как боль, не заглушить его деревья:
шумят, и в полусне не замирая!
Между немотой, сморщиванием и окаменением время перестает двигаться вперед и застой замещает прогресс и ускорение. Что когда-то было движением и надеждой, теперь размолото в пыль:
И видит Бог, что я стою на солнце.
Он видит тень, впечатанную в камни
так глубоко, что воздуха под прессом –
он видит! – не осталось и глотка мне.
И сам я камень, мертвая морщина,
изборожденный скол, как все земное,
и от живых уже одни обломки
с гигантскую ладонь величиною.
Изрезанные лица их мертвы,
и вместо слез бегут сухие рвы.
Такое детальное и мощное поэтическое описание сжимающегося времени 1956 года – только одна из сюжетных линий «Апокрифа», которая позволила мне понять, что именно я пытаюсь описать в своей книге. Помимо этого, текст связывает панораму времени, постепенно приходящего к остановке, с теми мотивами, пересекающимися, а иногда и идентичными, которые я вычленял и обрисовывал, чтобы дать почувствовать Stimmung послевоенных лет, а именно с трудным желанием пересекать пороги, а также с непрозрачностью и открытой пустотою (экзистенциальным состоянием, которое, думаю, и лежит в основе желания оказаться внутри защищенного места, во вместилище). Стихотворение содержит строку о возвращении к родительскому дому, которая напоминает мне о попытке ефрейтора Бэкманна отыскать дом своих родителей в пьесе Вольфганга Борхерта «Там, за дверью»:
Домой к себе хотел я, как в писанье
Пропавший сын,
домой хотел прийти я.
Огромной тенью двор пересекаю.
Нет сил окликнуть. За столом родные.
Спешат уже, зовут и обнимают,
Глядят, и радуясь и плача вместе.
И, принят снова в мирный круг домашний,
стою в окне, опершись на созвездья.
За этим следует жалоба о невозможности сделать себя понятным, путем ли языка или как-то иначе. Хотя вопрос, относится ли «ты» в этом отрывке к условно-обобщенному родительскому образу [202], остается открытым, кажется невероятным, чтобы войти во впускающий меня «мирный домашний круг» было просто делом некоей восстановительной реинтеграции. Ибо слова и голос бездомны:
О, если б мог я хоть теперь дозваться
тебя, кем жил, кому все эти годы
я повторял то, что в шелестящий угол
по вечерам выплакивают дети:
что я вернусь, что обрету я снова
тебя, моя надежда и потеря.
Ты ближе, чем биенье сонной жилы,
и цепенею в темном страхе зверя.
Язык твой, человеческое слово
Я позабыл. Спасенья ищут птицы,
Чтоб, сердце в этой гонке надрывая,
В зенит, в зенит горящий колотиться.
Пылают клетки, дали полыхают,
Дощечки сиротливые вздымая.
Не говорю я на твоем наречье
И языка людей не понимаю.
Всех слов земли слова мои бездомней!
Возвращение домой трудно, это боль с проблесками счастья: и слова, и голос не могут ухватить сути. Пустота расширяется под открытым небом; плетеные стулья и шезлонги ждут человеческих тел, но остаются пустыми; одиночество и холод обитают в убежище, где тот, кто жил в послевоенное время, часто искал утешения:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу