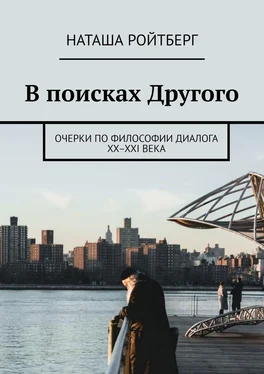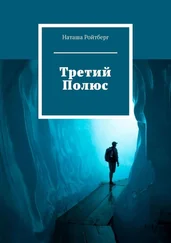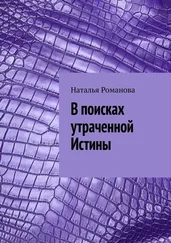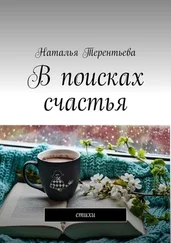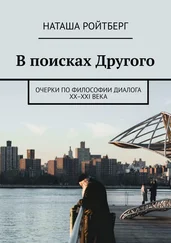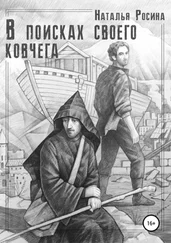На наш взгляд, современное поэтическое и песенное творчество предприняли попытку реализовать данный тип отношений, ориентируясь не столько на «человека культуры», сколько на голое «я», неокачественное культурой, вступающее в диалог с другим как с таким же центром экзистенциальной активности и с Б-гом как вечным Ты. В плане поэтики нашу мысль подтверждает рассуждение о пении как «персонологическом двуголосии», где «говорит и автор, и герой сразу» [105, с. 156].
От другого как «диалогической спецификации „ближнего“» у неокантианцев, Бахтин приходит к другому как «субъекту/объекту» эстетического общения и «внутренней иконе „я“» [100, с. 35]. Последнее положение его диалогического принципа созвучно отечественной традиции философии Другого как одной из основных составляющих «минимума соборности» — «я и Другого в присутствии Третьего», — где его идеальной нормой является «Иисус как Абсолютный Другой» [там же, с. 36]. Отношение Я-Другой проявляется также в ничем не обусловленной, свободной зоне фамильярного контакта карнавала, где «подлинная человечность отношений» «реально осуществлялась и переживалась в живом материально-чувственном контакте», образуя «особый тип общения, невозможный в обычной жизни» [105, с. 15]. В бахтинском исследовании средневековой народно-смеховой культуры для нас важно, во-первых, что карнавал как театрально-зрелищное действо находится на границах искусства и жизни, и, во-вторых, что смеховая культура имеет свои формы и жанры фамильярно-площадной речи.
Так, например, Нерлих-Слатева, исследуя творчество Гофмана в контексте бахтинской карнавализации, использует термин, сходный по значению с «вненаходимостью», — это оборот, обозначающий выход за пределы повседневности посредством карнавала: «Das Leben great aus dem Gleis» (буквально переводится с немецкого как «Жизнь выскальзывает из своей колеи») [цит. по: 93, с. 467]. В отличие от Бахтина, для которого «вненаходимость» есть поступок проецирования себя на место другого в процессе идентификации с другим и с последующим возвратом на свое первоначальное место, все это время, не забывая о собственном я, для Нерлих-Слатевой одним из главных аспектов такой хронотопической «вненаходимости» является мистический экстаз. Согласно вышеуказанному неологизму Нерлих-Слатевой, карнавальная «вненаходимость» — это «переход» с исхоженного жизненного пути, «выход из протоптанной колеи» и вхождение в другой — даже невыразимый с точки зрения повседневного языка — мир» [там же, с. 468].
Существует непосредственная взаимосвязь между карнавалом и особой языковой средой, диалогизмом и диалогическим словом. А именно — прозаическое двуголосие, исследуемое Бахтиным, — это продукт разложения двутелого карнавального образа, «полифония же задумывалась как преодоление монологического в основе своей двуголосия, т.е. как путь к восстановлению распавшегося архетипа карнавала на новых исторических основаниях» [93, с. 398]. Точка, объединяющая карнавал и полифонию, — амбивалентность: для карнавала — смех/серьезность, для полифонии — «извне»/«изнутри», как «обобщенно редуцированное выражение соотношений «Я» и «Ты», «Я» и «Другой» [там же, с. 398].
Главное в карнавале, с «диалогической» точки зрения, — его принципиальный не-монологизм. Карнавал как праздничное явление предполагает вовлеченность всех и вся в свою стихию: «празднование в одиночку» невозможно. Атмосфера единения, всеобщности, отстраненности от повседневного хода жизни — главные характеристики карнавального действа.
Карнавал — это «исторически-культурологическая» иллюстрация самого диалогического принципа. И, возможно, карнавализация — это не что иное, как веселое, неподпольное, «площадное» признание и оправдание того «избытка виденья», которым обладает сама жизнь, «народ», по сравнению с теми совершенно неизбежными, «официальными» масками, которые жизнь носит, и — шире — по сравнению с какими-то завершенными, уже «отпавшими в бытие» формами, смыслами, «мы-переживаниями» и «я-переживаниями» <���…> Это — «веселая смерть» [89, с. 79].
Ведь диалог предполагает понимание и отношение, и только посредством диалога становится возможным взаимодействие даже тех абсолютно непримиримых сфер, которые ранний Бахтин обозначил как «мир культуры» и «мир жизни».
Обратим еще раз внимание на определение карнавала как «коллективной субъективности». Это одновременно и живая соборность, общность, и множество отдельных разноликих «я»: «Я» прячется в Другом и других, хочет быть только другим для других, войти до конца в мир других как другой, сбросить с себя бремя единственного в мире Я (я-для-себя). Процесс овеществления и процесс персонализации. Но персонализация не есть субъективизация. Предел здесь не Я, а Я во взаимоотношении с другими личностями, т. е. Я и Другой, Я и Ты» [38, с. 370]: я-для-себя «отступает» перед я-для-другого и другим-для-меня.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу