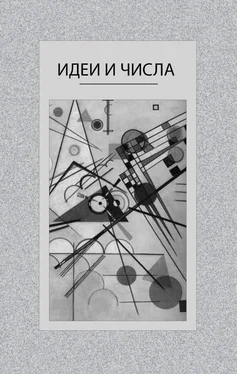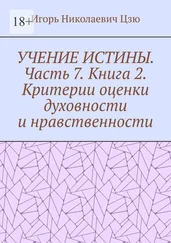Когда в последнее время только начали вводить более регулярную, формализованную и развернутую отчетность, многие сотрудники, в том числе вполне признанные философским сообществом в качестве безусловных авторитетов высшего уровня, испытывали затруднения при заполнении граф, в которых надо было в двух-трех фразах сформулировать «достигнутый результат». Поначалу они нередко практически повторяли формулировки планов научной работы, лишь меняя модальность времени: писали не «планируется исследовать», а «исследовалось». Понятно, что это был не вполне ожидаемый язык, поскольку предполагалось, что отчитывающийся должен писать не о том, что он исследовал, а какие именно содержательные результаты в данном исследовании получены. Проще всего это свести к проблеме отсутствия определенного рода административного навыка. И тогда тут особенно нечего обсуждать, тем более что довольно скоро философы, будучи, как правило, людьми с достаточно развитым интеллектом и не чуждыми навыкам письма, освоили этот язык и теперь заполняют формуляры регулярной отчетности без особых затруднений. Но можно увидеть здесь и более глубокую проблему – проблему понимания, что есть результат в философии как таковой, в чем его специфика. Может ли этот результат быть сформулирован по аналогии с обычной наукой – если говорить всерьез, а не на уровне формальных отчетов, в которых есть своя управленческая польза, но которые схватывают лишь первое приближение к истинному понятию философского результата.
В качестве иллюстрации можно привести простой мысленный эксперимент: Платона ставят перед необходимостью в трех фразах изложить научный результат какого-нибудь из его диалогов, причем не в модальности «исследовалось», а именно в модальности «было выявлено». Скорее всего, сначала он все же написал бы о том, что обсуждалось, потом, после объяснений, скрепя сердце переписал бы в модальности «выявлено» (если не вытолкал бы сразу взашей), но зато потом, уже в приватном диалоге с Сократом, посетовал бы на то, что спрашивающие совершенно не понимают природы философского мышления, его сути, особенностей движения философской мысли. Платон в данном отношении особенно выразительный пример, поскольку в его произведениях, в частности, в сократических диалогах, результат состоит как раз в отсутствии результата, в том, что в них развенчиваются поверхностные, ходячие представления об обсуждаемом предмете.
Все это вовсе не отменяет схем признания и интеллектуальной раскрутки философских работ и концепций, аналогичных или почти аналогичных тем, что работают в позитивной науке. Речь, однако, о том, что в философии постоянно возникают ситуации, в стандартную схему признания и раскрутки не укладывающиеся. Можно даже с оговорками согласиться, что в ряде разделов философии, там, где интеллектуальная процедура более формализована, действуют почти стандартные «машины признания», однако и тут периодически возникают исключения из правил, причем такие, что по своей реальной и развернутой во времени результативности ничуть не уступают сразу и количественно признанным работам, а то и превосходят их.
Так, например, основное сочинение Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление» было опубликовано безгонорарно тиражом в 800 экземпляров, но за полтора года было продано сто экземпляров, и издатель, оставив 50 экземпляров, пустил остальной тираж под нож. Философу пришлось ждать признания более 30 лет. Но после этого уже около 150 лет он является одним из самых публикуемых и читаемых авторов, в том числе (и даже в особенности) в России. И хотя близкие примеры, как уже отмечалось, есть и в истории науки, но все же здесь философия скорее более похожа на искусство, а именно на некоторые особенно яркие сюжеты. Вот один из примеров, признанных классическими: «Ян Вермеер, который считается сегодня самым выдающимся голландским живописцем, при жизни был гораздо менее почитаем. Французский аристократ Балтазар де Монкони в 1663 году писал в своем дневнике: “Я был представлен художнику Вермееру в Делфте, но тот не имел в своем доме ни одной собственной картины. Мы, однако, обнаружили одну у пекаря, который купил эту работу за сотню ливров. Я же думаю, что и шесть пистолей было бы слишком высокой ценой”. В наше время к большинству его произведений все чаще добавляют эпитет “бесценный”» [4] http://weekend.ria.ru/art/20121103/777117112.html?utm_medium=adnews&utm_ source=www.vedomosti.ru&utm_campaign = adnews_campaign_134&utm_ content=adnews_399570
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу