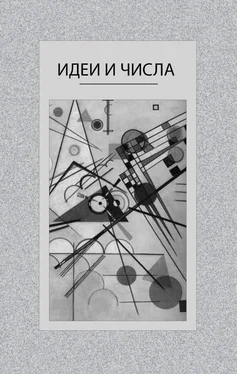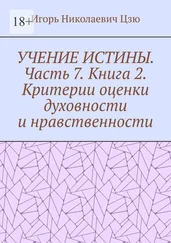Далее выяснится, что в плане реальной результативности, ее выявления и оценки, есть фундаментальные различия между точным и естественнонаучным знанием, с одной стороны, и социогуманитарными науками – с другой. Никто еще не отменял максимы Клода Леви-Стросса: «XXI век будет веком гуманитарных наук – или его не будет вовсе». При этом в социогуманитарных науках сплошь и рядом самое результативное (даже в сугубо конъюнктурном смысле этого слова) вообще не ловится международными базами данных и индексами цитирования, поскольку привязано к месту, к ситуации и т. п. Если эти различия не учитываются, если эта проблема даже толком не ставится, уровень подготовки любого «аудита результативности» можно без оговорок считать неудовлетворительным и отправлять на пересдачу, лучше сразу с другими учениками.
И наконец, совершенно особая тема – сверхутилитарная «результативность» науки, познавательной деятельности в целом. В науке есть своя прагматика, причем по косвенным признакам и итогам выявляемая даже в фундаментальных исследованиях. Однако человеку и человечеству по определению генетически свойственно узнавать и знать, причем совершенно безотносительно к голой или «приодетой» прагматике. Если это в нации есть, такие направления пестуют и культивируют даже самые малые страны. Тем более это относится к России, в прошлом которой однажды было почти уникальное в истории человечества явление – полный научный комплекс. Даже если в каких-то направлениях остались почти руины этого великого сооружения, к ним надо относиться так же бережно и культурно, как мы относимся к памятникам архитектуры и археологическим открытиям. Это долго объяснять, но есть люди, которым вовсе не объяснишь, почему историческое здание, а тем более памятник архитектуры порой нельзя переоборудовать в стиле модерн (тем более постсоветский) и устроить в храме мысли интеллектуальный фастфуд, хотя бы и неплохо саморекламируемый и даже доходный.
Есть и более простые соображения, ставящие на место сторонников заполошных реформ. Формализованная оценка результативности, казалось бы, дает основания избавиться от балласта. Иногда это срабатывает. Но сплошь и рядом все упирается в непонимание того, что наука это сложный организм, к тому же требующий для своей репродукции определенной среды, состоящей отнюдь не из гениев и их прямых подручных. К тому же вы отсечете огромную зону нераскрытого потенциала, в которой вообще нельзя заранее сказать, что именно сработает и вдруг неожиданно развернет весь процесс.
Нынешняя наука в России – сложнейшее образование, причем не только исследовательское, но и социальное. Представьте себе венчурный бизнес с элементами собеса, по-человечески просто обязанного содержать множество людей, отдавших науке и стране всю жизнь, проработавших за копейки без сна и отдыха и не получивших в свое время за это даже малой доли той компенсации, которую имели и имеют в других странах вполне себе рядовые научные сотрудники.
Возможно, сейчас в нашей истории такое время, что хотя бы на несколько лет вообще лучше воздержаться от каких-либо революционных изменений. Иначе можно легко совершить еще один «подвиг» сродни обесцениванию вкладов и нарваться на протест, в сравнении с которым недовольство монетизациией льгот покажется мелочью, а «заливать деньгами» эту беду придется уже политическому руководству
Подорвать будущее нашей науки сейчас еще проще, но тогда во власти нужно куда больше людей, которых это вообще волнует, понимающих, что для такой страны, как Россия, наука это не приятный аксессуар, но атрибут государственности и самосознания.
Глава 2
Может ли философия быть неактуальной?
Вопрос об актуальности в философии не является в наше время праздным или отвлеченным. Наоборот, у этой «актуальности актуального» есть целый ряд оснований: от сугубо ситуативных до самых фундаментальных, связанных с осмыслением самой природы философской деятельности.
На первый взгляд, достаточно очевидно, что философские исследования могут быть непосредственно втянуты в реальные процессы, но могут быть и вполне отвлеченными. Однако при ближайшем рассмотрении все здесь далеко не так просто.
Проще всего было бы сослаться на некоторые новейшие тенденции в управленческой практике, связанные с попытками эффективного администрирования исследовательского процесса за счет максимальной формализации оценки его результативности. Здесь есть известные возможности, перспективы, но и становящиеся все более очевидными риски, связанные с опасностью недооценки глубинной специфики разных видов интеллектуального труда и как следствие – с созданием дополнительных, лишних трудностей в наиболее сложных и тонких исследовательских процессах, и без того крайне болезненно реагирующих на проблемы ненаучного, несодержательного характера.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу