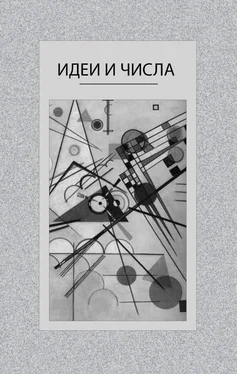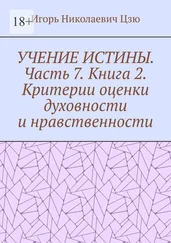С этой точки зрения, сейчас, может быть, гораздо важнее оказываются даже не суть и детали законопроекта, всего пакета и плана реализации, а именно процедура, характер действий и отношений, этика и стиль, политическая манера, наконец, просто эстетика деяния.
По идее, это же должно быть предметом приоритетного обсуждения и коррекции, если мы хотим свести к минимуму негативные последствия такого бурного начала. Особенно с учетом того, что форма взаимодействия, принятия решений и их воплощения будет потом годами аукаться с каждой новой акцией в отношении структур, направлений, институтов, их подразделений и даже отдельных лиц, имеющих (или вдруг приобретающих) неординарный вес.
Автономия во сне и наяву
Если всмотреться в проект и в реакцию на него, окажется, что за вычетом легко снимаемых «экстремизмов» в духе «ликвидации» и т. п. главные претензии предъявляются идее передачи управления научными институтами от академии к специальному органу исполнительной власти. Можно опустить вопрос о том, могут ли чиновники лучше самих ученых руководить исследованиями – определением приоритетов, оценкой результатов и пр. Но на это, по крайней мере на словах, никто, казалось бы, и не претендует. Речь постоянно идет о желании освободить ученых от несвойственной им функции управления имуществом, ни в коей мере не посягая на академическую автономию, то есть на то, что даже в «мрачном средневековье» в более или менее цивилизованном мире уважительно именовалось университетскими свободами.
В наших условиях, когда мы имеем дело с проблемой избыточного регулирования буквально во всех сферах деятельности, причем отнюдь не только в предпринимательской, можно быть уверенными, что административное вмешательство в исследовательский процесс гарантировано, как только такая возможность появляется, причем совершенно неважно, является такая возможность прямой или косвенной. Мотивы здесь не обсуждаются, поскольку и так понятны и, как правило, к предмету деятельности отношения не имеют. При этом понятно, что в случае, если недвижимостью, движимостью и прочими ресурсами какого-либо института или группы институтов управляет некая сугубо внешняя инстанция, о реальной автономии говорить уже проблематично. В итоге есть риск получить классический, причем искусственно созданный дополнительный административный барьер.
Наука и общество: постнеклассические отношения
Приходится констатировать, что наша наука в известном смысле проспала постнеклассическую революцию, когда научное знание оказалось перед лицом необходимости объяснять человечеству, что ученые делают, зачем это нужно, какие от всего этого могут быть последствия, причем в равной мере как позитивные приобретения, так и риски, возможно, даже фатальные.
Мы в этом не одиноки. Уже примерно полтора десятка лет назад перед подобной (и совершенно практической) проблемой оказался, например, ЦЕРН, вдруг ощутивший живую потребность начать как-то объясняться с внешним миром, какой ему толк от всей этой ядерной физики и ловли неуловимых частиц, если эта мировая складчина обходится не менее миллиарда долларов в год. Тогда анализ, проведенный в том числе с помощью наших специалистов в области «философского пиара», показал, что даже на совершенно утилитарном уровне у этих, казалось бы, сугубо фундаментальных исследований есть огромное множество побочных достижений, в буквальном смысле слова изменивших мир, например, все та же WWW – World Wide Web, разработанная Робертом Кайо, поначалу в целях оптимизации принятия решений и электронного документооборота. Иными словами, проблема не в результатах, а в том, что о них не знают, если этим специально не заниматься.
Это проблема фундаментальная, можно сказать, историческая и кавалерийской атакой не решается. Если кто-то думает, что реальную результативность нашей науки, тем более не в целом, не интегральную, а с дифференциацией по отраслям знания, по научным организациям и даже отдельным ученым можно выявить, заказав непрофильной иностранной фирме соответствующее разовое исследование, а потом проведя своими же силами скоропалительный «аудит», это само по себе является свидетельством вопиющей некомпетентности, усугубленной нежеланием учиться. ЦЕРН выскребался из этой коллизии не один год, с провалами и не до конца. Что можно говорить о нашей науке, у которой даже близко не хватает ресурсов на исследования, а на экспликацию и презентацию собственной результативности не было и нет вообще ни копейки (если, конечно, не считать такие недавние начинания, как РИЕЩ).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу